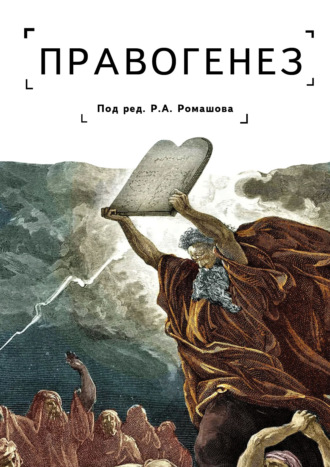
Коллектив авторов
Правогенез: традиция, воля, закон
Глава 4
Происхождение правовых ценностей
4.1. О феноменологии ценностей
Откуда берутся ценности? Такая постановка вопроса почти неизбежно чревата методологической обеспокоенностью, ощущением необоснованности получаемых знаний, их отягощенности субъективными индивидуальными и групповыми эмоциями, идеологическими представлениями и т. п.
Слишком оценочным, а значит, порождающим сомнения оказывается знание о ценностях. И это совсем не потому, что ценностям якобы присуща чисто субъективная природа; как отмечает И. Д. Невважай, «объективность знания и его ценностная ориентированность вполне совместимы»[185]. Однако реальные ценности не так-то просто отличить от иллюзорных.
В этом состоит притягательность феноменологического метода – в интересе к чистоте и достоверности познания. Кроме того, феноменология предлагает хотя и сложную, но действенную, теоретически и методически проработанную технологию мышления, что позволяет ей претендовать на выполнение «навигационной» функции в сфере философского познания права[186].
Наиболее сложным в феноменологической модели познания является требование отказаться от естественной установки, т. е. от привычного способа отношения к миру. Для естественной установки, как полагал основатель современной феноменологии Э. Гуссерль, характерны следующие черты:
– во-первых, эта установка автоматически и некритически, без должных оснований приписывает воспринимаемым вещам реальное существование путем «полагания», т. е. проекции своих ощущений и представлений во внешний мир;
– во-вторых, естественная установка порождает различные «спонтанности сознания», т. е. незапланированные и неотрефлексированные мнения, оценки, эмоции, желания и т. п.;
– в-третьих, разные элементы полученного «естественного мира» склеиваются между собой и порождают причудливые соединения;
– в-четвертых, весь состав «естественного мира» отличается крайней изменчивостью[187].
Феноменология занимает по отношению к «естественному миру» радикальную позицию безразличия. Основная мыслительная операция феноменологии – «эпохэ» – не является ни признанием внешнего мира, ни его отрицанием, ни даже сомнением в его существовании. Гуссерль называет этот принцип «выключением», или «взятием в скобки»: «Мы не отказываемся от тезиса, какой осуществили, мы ни в чем не меняем своего убеждения, которое в себе самом каким было, таким и остается, пока мы не вводим новые мотивы суждения – а этого мы как раз и не делаем. И все же тезис претерпевает известную модификацию, – он в себе самом каким был, таким и остается, между тем как мы как бы переводим его в состояние бездействия – мы “выключаем” его, мы “вводим его в скобки”»[188]. Таким образом, мы ничего не теряем, поскольку отказ от убеждений является условным – они сохраняются, но лишь временно меняют свой статус.
Взамен проблематичного и ненадежного познания внешнего мира феноменология предлагает новую мыслительную установку, основанную на идее интенциональности: сознание всегда имеет интенцию, т. е. определенную направленность на какой-то предмет; невозможно сознание вообще, оно всегда является сознанием «о чем-то».
Основной единицей познания является феномен. Согласно определению М. Хайдеггера, феномен – это «само-по-себе-себя-кажущее, очевидное»[189], т. е. нечто, данное именно таким, как оно есть. Этим он отличается, например, от симптомов, символов и показаний, которые отсылают к чему-то, чем сами не являются[190].
Структура феномена включает в себя два основных элемента: 1) ноэзис – переживание, способ предъявленности объекта сознанию (например, восприятие, чувство, память и т. п.); 2) ноэма как «интенциональный коррелят», или непосредственный объект, на который направлено переживание (вещь, событие, процесс).
Феноменологическое познание (редукция) начинается с «экземплярного усмотрения»: необходимо найти в своем опыте предельно очевидный и ясный единичный пример исследуемого феномена. Специфика редукции состоит в том, что ведется не обобщение массива эмпирических данных, а пристальный анализ отдельно взятого образца («кейса»).
Первым этапом редукции является дескрипция – максимально полное, детальное описание, задача которого – расширение знаний о предмете и их регистрация. Как отмечает В. Декомб, «Открывающееся мне измеряется тем, что я могу об этом сказать. Тем самым феномен отождествляется с высказыванием. Отсюда и понимание феноменологии как описания. Она должна не объяснять, но пояснять, т. е. воспроизводить в дискурсе высказанное до дискурса, чем и является феномен»[191].
Второй этап – эпохэ, т. е. «взятие в скобки» или «выключение» всего «приставшего» к предмету – например, мнений, оценок, интерпретаций. Как поясняет А. Шюц, «ни одна из их истин, выдержавшая опытную или логическую проверку во внешнем мире, не может быть принята в редуцированную сферу без надлежащего критического анализа»[192].
Наконец, третий этап – эйдетическая редукция, нечто вроде мысленного эксперимента, в ходе которого все оставшиеся признаки проверяются на существенность при помощи того, что Гуссерль называет «свободным варьированием в фантазии» (freie Variation in der Phantasie), когда нужно представить себе объект поочередно лишенным каждого из этих признаков. Это, как отмечает К. А. Свасьян, позволяет «относиться к фактической стороне феноменов категориально, т. е. рассматривать их в качестве “примеров” или “вариантов” их инвариантной сущности. Феноменолог отвлекается от частных форм, чтобы исследовать априорные формы явлений»[193].
Г. Шпигельберг указывает: «Сюда могут входить две вещи: попытка либо (1) полностью исключить определенные компоненты, либо (2) заменить их другими»[194]. В том случае, если объект продолжает оставаться самим собой, это означает, что отбрасываемый признак является несущественным.
Предполагается, что после корректного проведения всех операций остается нерастворимый остаток – «эйдос» вещи как ее определяющая характеристика или связка характеристик.
Наиболее распространенная критика феноменологического метода связана с обвинениями в субъективности. Так, И. Л. Честнов полагает: «Главная проблема так называемой “трансцендентальной” феноменологии права заключается в том, что поиск эйдоса права (правовой “природы вещей”) основывается на интуитивизме, а потому лишен даже той объективности, на которую претендовала позитивистская юридическая наука»[195].
Однако феноменологический подход предусматривает определенные гарантии против безудержной субъективности: во-первых, путем замены индивидуальных «спонтанностей сознания» строгими правилами мышления: «исследователю предъявляется требование изъять содержание собственного сознания и удерживать форму феноменологического метода»[196]; во-вторых, именно на этапе эйдетической редукции первоначальная интуиция может и должна быть скорректирована на основе рациональной проверки, сопоставления исходного образа феномена с данными опыта.
Рассмотрим работу феноменологического метода на примере феномена ценности.
Следует сразу оговориться, что «правовая ценность» в данном случае не является корректно выбранным объектом исследования, поскольку представляет собой не один феномен, а два. Феномены же обладают таким свойством, как неделимость, невзирая на возможную внутреннюю разделенность, или, по словам М. К. Мамардашвили, «функционируют, воспроизводятся независимо от своей реальной разложенности на составные части, то есть поверх своей сложности»[197]. Тем не менее вполне допустимо будет избрать пример из области права. Им может быть, в частности, следующий текст из ст. 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
1. Дескрипция. На этой стадии могут быть выделены следующие свойства рассматриваемого «экземпляра» ценности:
– является вербально артикулированным;
– выражен в письменном виде;
– носит конституционный характер;
– является общеобязательным;
– обладает высшей юридической силой;
– выражает определенное предпочтение;
– утверждает приоритет человека по отношению к другим ценностям.
2. Эпохэ. На этой стадии следует отбросить те характеристики, которые являются элементами «естественной установки» и не могут быть однозначно, с очевидностью зафиксированы как относящиеся к данному феномену. Такими свойствами в данном случае являются обязательность и высшая юридическая сила, поскольку они не являются наглядными, не даны в непосредственном наблюдении, а известны из постороннего источника и, следовательно, относятся к разряду чужих мнений и подлежат нейтрализации путем «взятия в скобки».
3. Эйдетическая редукция. Исключению подлежат признаки, являющиеся для данного феномена необязательными (случайными). По отношению к ценности ими являются закрепление в тексте Конституции (поскольку существуют и иные ценности, не имеющие конституционного характера), письменная форма выражения (поскольку ценности допускают и устный способ манифестации) и приоритет человека (поскольку возможны и иные ценностные ориентации).
Таким образом, остаются лишь два признака, которые не могут быть подвергнуты «выключению»: предпочтение (поскольку там, где отсутствует различие в оценочном отношении, не явлена и ценность) и высказывание (ценность невозможна без ее осознания и словесного оформления; это вполне согласуется и с ранее приведенной гипотезой о неотделимости феномена от его описания, и с идеей о коммуникативной природе ценностей, развиваемой, в частности, А. В. Поляковым: «Все правовые ценности находятся в пространстве правовой коммуникации»[198]). Следовательно, эйдосом ценности является артикуляция предпочтения.
4.2. Предыстория аксиологии права
Ценности не нужны там, где совместная жизнь людей организуется ритуально-мифологическими механизмами, где все выжившие представители человеческого сообщества гарантированно погружены в общую смысловую и ритмическую среду.
Сама проблема регуляции поведения в этих условиях уже существует, как и случаи самовольного отклонения от привычности, но предметом специального осмысления еще не становится, ибо сами действия и тот порядок, которому они подчинены, не осознаются как нечто отдельное друг от друга, а значит, никакой задачи приведения одного в соответствие с другим не существует – только переживания чего-то неправильного, даже катастрофического, но не более того.
Появление права как нормативного стандарта знаменует собой распад этого идиллического единства. Становится необходимым возникновение правил поведения в обособленном виде, которые начинают рассматриваться в качестве внешней силы по отношению к поступкам. Далее, закрепление этих правил в письменной форме придает им уже радикально отчужденный характер. Возрождение той былой слитности («потерянного рая», «Золотого века» и др.) оказывается более никогда и ни при каких обстоятельствах не достижимым, между правилами и действиями начинает зреть конфликт.
В этот момент ценности уже объективно подготовлены: поддержание социального порядка на том уровне, который достаточен для выживания сообщества, требует ввести новое опосредующее звено, которым становится правовая идеология, включающая в себя всевозможные способы обоснования ценности этого порядка.
Таким образом, основными этапами формирования аксиологического подхода к праву можно считать:
– разложение мифологического мышления, сопровождающееся выделением нормативности в качестве самостоятельного аспекта коллективной жизни;
– юридическая формализация части правил; возникновение разлада между правом и фактическим поведением;
– необходимость оправдания существующего нормативного порядка через обоснование его ценности.
Не случайно в тех идеологических направлениях древности, которые в наибольшей степени тяготеют к традиционным моделям общественного уклада, зачастую встречается крайне недоверчивое отношение к правовым институтам. При этом следует иметь в виду полисемичность термина «право», в силу которой под этим наименованием могут скрываться разные смыслы.
Так, у Лао Цзы принцип недеяния органически предполагает крайне скептическое отношение к законодательству: «когда в стране много запретительных законов, народ становится бедным. Когда у народа много оружия, в стране увеличиваются смуты. Когда много искусных мастеров, умножаются редкие вещи. Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников»[199]. Право воспринимается как симптом прогрессирующего упадка, вызванного нарушением естественного хода вещей. По существу, издание законов равносильно любой другой искусственной деятельности правителя, которая может лишь воспрепятствовать действию истинного Дао. «Поэтому совершенномудрый говорит: “Если я не действую, народ будет находится в самоизменении; если я спокоен, народ сам будет исправляться. Если я пассивен, народ сам становится богатым; если я не имею страстей, народ становится простодушным”»[200]. Таким образом, то ущербное и несовершенное состояние, которое связывается с действием законов, для Лао Цзы является преодолимым, поскольку нет ничего невозможного в восстановлении прежнего порядка, когда в юридических инструментах отсутствовала надобность.
Конфуцианство, по всей видимости, уже утрачивает надежду на возвращение к прежнему единству, а значит, на избавление от законов. Право рассматривается скорее, как неизбежное зло, ставшее непреложным фактом общественного устройства. Однако ценность закона не признается, – напротив, всячески подчеркивается низкий статус законов по сравнению с ритуалами: «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд и он исправится»[201]. Закон неразрывно связывается с насилием, противопоставляется добродетели и рассматривается как препятствие на пути исправления нравов.
И для Платона, при всей его лояльности правопорядку, эффект правильного устройства совместной жизни обеспечивается далеко не любым законом. Ценна, таким образом, не сама форма закона, а строго определенное его содержание. Законодателя, который стремится упорядочить общество механическим изданием все новых и новых законов, Платон сравнивает с больным, который не желает прекратить распущенный образ жизни и любым лечением только усугубляет свои недуги. «Такие законодатели всего забавнее: они, как мы только что говорили, все время вносят поправки в свои законы, думая положить предел злоупотреблениям в делах, но, как я сейчас заметил, не отдают себе отчета, что на самом-то деле уподобляются людям, рассекающим гидру»[202].
В «Государстве» закон (право) выступает в качестве культурного императива, который позволяет утвердить в обществе справедливость и единство, увековечить их и исключить дальнейшие изменения. Но ценность закону придает не сам факт давности его существования, как в «Критоне», а отраженная в нем истинная идея, которая доступна только законодателю-философу.
Пример преходящего характера правовых ценностей находим у Цицерона, который закон рассматривает как средство исправления пороков и воспитания доблести.
Счастье, согласно Цицерону, состоит в следующем: познавать и воспринимать доблесть, отказаться от потворства телу, подавить стремление к наслаждению, избавиться от страха смерти и боли, соединиться с близкими, почитать богов и соблюдать религию, «изощрить» зоркость глаз и ума[203].
Доблесть, которая казалась Цицерону конечной и высшей ценностью и уже не нуждалась ни в каком дополнительном обосновании, сегодня свой ценностный статус сохраняет, но в перечне базовых ценностей права едва ли значится.
4.3. Ценностная динамика права
Завершенный цикл генезиса правовой ценности проходит следующие основные фазы:
1. Формирование «ценностной ориентации», т. е. субъективного тяготения к чему-либо.
Общая структурная модель, с которой связывается представление о ценностях, основана на том, что человеческое поведение носит интенциональный (т. е. направленный) характер. Различные элементы реальности могут вызывать у человека или коллектива либо притяжение, либо отталкивание. Исходя из этого, ценность может быть охарактеризована как качество, в силу которого предмет или явление становится объектом социальных устремлений.
В этом смысле ценности имеют ярко выраженную психологическую составляющую, поскольку действуют в тесном сплаве с чувствами и эмоциями. Так, один из основоположников аксиологии Г. Лотце утверждал, что градация ценностей определяется «приговором чувства»[204].
Вместе с тем неверно было бы сводить ценность к одному из видов мотивации, пусть даже наиболее сложному. Ценность не тождественна ценностной ориентации конкретного лица. Как отмечал основоположник феноменологии и теории интенциональности Э. Гуссерль, объект интенции – это нечто подразумеваемое, но оно всегда больше, чем прямо подразумевается в данный момент[205]. Например, мое стремление к свободе и представление о ее желаемых формах всегда является более узким, чем свобода как таковая.
Субъективизм в трактовке ценностей действительно несет опасность их обесценивания через сведение к индивидуальному произволу, личным пристрастиям и т. п. Значение ценностей состоит именно в их двойственной, объективно-субъективной природе. Ценности носят социально-индивидуальный характер. Они не изобретаются отдельными индивидами, а воспринимаются ими из социальной среды, часто специфическим образом преломляясь в жизненном опыте. С другой стороны, ценность, не получающая поддержки со стороны конкретных личностей, была бы лишь квазиценностью.
К психологизму в своих общих представлениях о природе ценностей склоняется В. П. Малахов, т. е. сводит ценности к определенным состояниям внутреннего мира человека: «ценность представляет собой единство двух форм мотивации – установки как устойчивого ожидания (предчувствия) и ориентации как стратегической мотивации (предрасположенности)»[206].
В целом В. П. Малахов рассматривает ценность как особый жизненный настрой, выражающийся в позитивном признании (принятии) мира человеком: «Ценностное состояние есть готовность (духовная приготовленность) человека к жизни среди других людей, в обществе, в мире, всегда предстающая как заданность любому конкретному отношению человека с другими людьми, с предметным миром, а не порожденность условиями жизни. Это чистая субъективность»[207].
Однако даже у Л. И. Петражицкого, для которого правовые феномены – это эмоционально-интеллектуальные процессы, происходящие в психике индивида[208], а наличие или отсутствие одобрения со стороны других есть нечто постороннее и на природу правовых явлений не влияющее[209], эта крайняя индивидуалистическая позиция заметно меняется, как только речь заходит о ценности права. Основной общественной функцией права Петражицкий считает мотивационную: «наряду с пассивной этической мотивацией (сознание долга) имеет место активная (сознание управомоченности), так что получается, соответственно, координированное индивидуальное и массовое поведение»[210].
Что касается «координированного индивидуального поведения», то оно вполне вписывается в общую концепцию права как психического явления: поскольку нравственность предполагает лишь переживание своих обязанностей, а право – как обязанностей, так и правомочий, то такая двойная мотивация должна быть более надежной, придавать действиям индивида последовательность, избавлять его от сомнений и колебаний. Однако упоминание о «координированном массовом поведении» меняет дело. Не совсем ясно, каким образом правовые эмоции, которые по своей природе принадлежат лишь конкретному индивиду, могут порождать координацию деятельности целых коллективов и даже масс.
Тот факт, что индивидуальные по своему характеру психические явления вдруг приобретают единообразное и фиксированное содержание, конечно, не может быть результатом простого совпадения. Можно предположить, что к ним присоединяется какой-то элемент, имеющий объективное происхождение. В таком случае именно этот элемент несет на себе основную функциональную нагрузку, поскольку без него был бы невозможен наиболее ценный эффект права – «прочная координированная система вызываемого правом социального поведения, прочный и точно определенный порядок»[211].
2. Осознание и артикуляция «ценного» предмета.
Объективность ценностей обусловлена их коллективным происхождением. По всей вероятности, на уровень ценностей могут возводиться лишь такие предпочтения, которые оказывают позитивное воздействие на жизнь социальной группы, которая их санкционирует и легитимирует. Иначе говоря, система ценностей – это всегда выражение представлений социального целого о том, что необходимо ему для существования.
Право как нормативная система всегда признает и защищает те социальные ценности, которые являются наиболее типичными и распространенными в данном социуме, а также носят наглядный характер и могут быть представлены в материальной, документальной, словесной форме на основе относительно строгих критериев (поэтому за рамками права почти всегда остаются такие ценности, как, например, добро, дружба, любовь и т. п., которые опираются не столько на точные операциональные описания, сколько на интуицию).
Базовый (простейший) мотивационный уровень представляет собой объективно существующую нехватку (дефицит) какого-либо ресурса, необходимого для жизни. Если к этому добавляется рациональное осознание, то появляется интерес; критерием осознания является возможность артикуляции, т. е. способность субъекта представить предмет своего устремления в речевой форме.
О наличии ценности можно говорить там, где не только осознан объект стремления, но и проведена особая интеллектуальная работа – рефлексия, которая позволяет понять причину этого устремления.
Таким образом, любая ценность актуализируется, как правило, при возникновении ее дефицита, поскольку именно тогда становится ясно, что недостающее, недостаточно развитое начало социальной жизни обладает действительной значимостью. Можно предположить, что в гипотетической ситуации полного удовлетворения всех жизненных потребностей культура бы не сталкивалась с понятием ценности. Собственно, сама ситуация выбора сигнализирует о том, что наличные возможности небезграничны и что ради одного блага придется пожертвовать чем-то другим. Таким образом, причиной осознания права как ценности может служить нехватка правовых элементов в общественном устройстве.
Еще одним фактором, актуализирующим вопрос о ценности права, является сомнение. Обоснование того, почему тот или иной предмет является ценным, свидетельствует об отсутствии изначальной уверенности в этом. Объяснять ценность права, таким образом, значит реагировать на открытые или молчаливые сомнения со стороны общества. Всеобщее согласие в этом вопросе не давало бы повода для публичного обсуждения, и в этом случае ценность права выступала бы чем-то само собой разумеющимся, не подлежащим дальнейшей рефлексии в силу своей общеизвестности и очевидности.
Ценности объективны в той мере, в какой они сохраняют свою групповую принадлежность. В этом смысле для конкретного человека различаются, с одной стороны, его собственные, субъективные ценности, а с другой стороны – ценности той социальной группы (общности), к которой он принадлежит. Последняя категория ценностей по отношению к нему выступает как нечто внешнее, в некотором смысле принудительное, а значит, объективное.
Сходство понятий «ценность» и «цена» является далеким от случайного совпадения, а отражает то обстоятельство, что современный способ общественного устройства в значительной степени основывается на категориях и представлениях обменного типа[212]. В рамках этой модели восприятия все социальные отношения и институты рассматриваются как особые разновидности обмена. Можно предположить, что сама постановка вопроса о ценностях представляет собой косвенный эффект распространения товарно-денежных отношений.
3. Появление нормативных конструкций, закрепляющих ценности.
Исходя из психологического понимания ценностей, В. П. Малахов приходит к выводу, что в сфере права ценностей не существует, что мир ценностей и мир права несовместимы.
Аргументация автора такова: поскольку ценности сугубо субъективны, а право объективно, то оно неизбежно разрывает свою связь с ценностями. К самому праву ценности отношения не имеют, оставаясь где-то далеко за его рамками (например, в сфере морали, философии, религии), поскольку абстрактно-идеальный и абсолютно-духовный характер ценностей в мире права реализован быть не может. Ценности могут, конечно, быть обнаружены при анализе правовых норм как факторы их появления, но для самого права такая операция мышления ничего не дает: «Рассуждения по поводу ценностей есть лишь рассуждения об основаниях норм, в силу которых нормам нужно следовать. Но ничего правового в этом акте нет»[213].
Таким образом, правовая регуляция поведения, с одной стороны, и его ценностная обусловленность, с другой стороны, между собой не сочетаются и вытесняют друг друга. Право пользуется не ценностными, а нормативными методами воздействия. Таким образом, развитие права влечет гибель ценностей: «Нарабатывание права (в его нормативно-формальном воплощении) есть умирание ценностей, ценностного бытия права»[214].
Если ценность – это чистая субъективность, то выводы В. П. Малахова, по всей видимости, вполне убедительны. С формально-юридической точки зрения никакой душевный или духовный настрой не может ни улавливаться, ни учитываться. Однако как тогда объяснить по меньшей мере столь широкое обращение к ценностям в текстах законодательных и судебных актов? Ценности можно «спасти» для права, если признать, что они не сводятся к субъективным состояниям человека, а имеют еще и другую форму бытия – в качестве особых риторических фигур, которые обретают вполне объективированный, даже отчужденный характер и служат для принятия и обоснования юридических решений.
Ценностный анализ конкретных нормативных текстов представлен в российской юридической науке прежде всего таким направлением, как «конституционная аксиология», сформировавшаяся в тесной связи с практикой конституционного правосудия и, соответственно, способствующая обоснованному принятию конкретных юридически значимых решений, направленных на защиту прав и свобод человека. Основными проблемами конституционной аксиологии являются установление точного набора конституционных ценностей, размещение их в едином нормативном пространстве и построение в иерархическом порядке[215].
Так, Н. С. Бондарь делает важное методологическое замечание, что аксиологическое исследование «требует тонкого герменевтического выявления и позитивного (категориально-понятийного) оформления этих ценностей в процессе конституционно-контрольной деятельности судебных органов (прежде всего на уровне актов официального толкования или истолкования положений Конституции)»[216].
При общей характеристике конституционных ценностей Н. С. Бондарь берет за основу такие понятия, как «приоритет» и «модель»: ценностная значимость норм Конституции выступает «отражением фактически сложившихся и юридически признаваемых представлений о социальных приоритетах и наиболее оптимальных моделях обустройства общественной и государственной жизни, о соотношении ценностей власти и свободы, равенства и справедливости, рыночной экономики и социальной государственности и т. д.»[217].
При этом в конституционной аксиологии Н. С. Бондарь различает три уровня:
1) ценность самой Конституции как политико-правового документа, задающего основные императивы правопорядка и государственной организации общества;
2) конкретные ценности, получающие прямое закрепление в конституционных нормах и принципах;
3) ценности, не названные в тексте Конституции, но имплицитно в нем присутствующие и «сгенерированные» Конституционным судом Российской Федерации (в качестве примеров автор приводит правовую определенность, стабильность условий хозяйствования, баланс публичных и частных интересов)[218].
И. Л. Честнов подчеркивает, что в условиях современного мультикультурализма вменить всем какую-либо единую систему универсальных ценностей невозможно: «…содержательно определенная универсальность права, на мой взгляд, невозможна в принципе. Это связано с тем, что проблема универсальности права (и содержательного определения ценности права) соотносима с принципом неопределенности, обусловливающим (пост)современное мировоззрение. Социальная реальность (включая, конечно, и правовой ее момент, аспект), определяемая социальными представлениями, принципиально вероятностна, нестабильна и сложна, подвержена рискам саморазрушения. Поэтому управление ею и достижение всеобщего блага – о чем мечтали мыслители эпохи Просвещения – не поддается разумному расчету»[219].
Постмодернизм понимает себя как преодоление модерна – такого состояния общества и мышления, которое характеризуется упорядоченностью, рациональностью, системностью, представляет собой организованный, целостный агрегат, устроенный вокруг некоего центра. Классическая юриспруденция идеально отвечает этим представлениям. Постмодернистская культура с ее «кризисом рассказа» и недоверием к метанарративу, напротив, предлагает децентрированные модели. Согласно Ж. Ф. Лиотару, «консенсус стал устарелой ценностью, он подозрителен»[220].
Наряду с этим, впрочем, И. Л. Честнов предпринимает собственную попытку выявить универсальную ценность права, в качестве которой, по его предположению, выступает «социальное назначение, которое состоит в обеспечении нормального функционирования, выживания социума»[221]. Однако эта универсальность дополняется релятивностью, поскольку точным знанием о правильности или ошибочности тех или иных правовых мер не располагает никто. Поэтому «выживание социума» как трансцендентная (внешняя, не явленная прямо) ценность представлена в сфере права такими имманентными ценностями, как диалог и легитимность[222].
Таким образом, и нормативный, и философский взгляд вскрывают плюрализацию, релятивизацию и партикуляризацию правовых ценностей. При этом «в любом случае каждая следующая стадия исторического развития начинается с отрицания ценностей и основополагающих принципов, которыми в своей политико-правовой деятельности руководствовались представители предшествующего поколения»[223]. Следовательно, цикл формирования и легитимации правовой ценности может завершаться не более чем временно и условно, дабы, подобно герменевтическому кругу, раскручиваться вновь и вновь.


