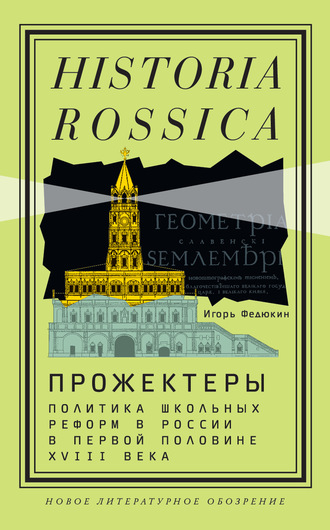
Коллектив авторов
Прожектеры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII века
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Работа над этой книгой продолжалась долго – слишком долго – и в процессе этой работы я накопил длинный список неоплатных долгов. Мой самый давний долг – А. Б. Каменскому и А. Л. Зорину, которым я обязан моим интересом к изучению России XVIII столетия и которым я глубоко благодарен за научное и житейское руководство на протяжении вот уже четверти века.
В основу этой книги легла диссертация, подготовленная в Университете Северной Каролины, и я признателен моим многочисленным коллегам и друзьям по департаменту истории и аспирантской программе по истории России за поддержку с их стороны. Среди замечательных профессоров, с которыми мне довелось встретиться в Чапел Хилле, я хотел бы отдельно упомянуть Дж. Смита. Его работа, посвященная зарождению меритократических идей во Франции в начале XVIII века, повлияла на меня сильнее, пожалуй, любой другой книги, прочитанной мною за время обучения в аспирантуре, а принципиальная позиция, которую он занял по вопросу об академической коррупции в Университете Северной Каролины, остается образцом для подражания. Завершение работы над диссертацией стало возможно благодаря поддержке С. М. Гуриева, который пригласил меня работать в РЭШ, а позднее предоставил мне творческий отпуск, позволивший дописать диссертацию и защитить ее.
За возможность переработать диссертацию в книгу я глубоко признателен Я. И. Кузьминову, пригласившему меня в 2013 году присоединиться к коллективу Высшей школы экономики. М. М. Юдкевич на протяжении всех этих лет относилась к моим разнообразным прожектам с неизменной благожелательностью. Я благодарен мои коллегам по Школе исторических наук НИУ ВШЭ и моим товарищам по Центру истории России Нового времени, в особенности И. А. Христофорову, М. Б. Лавринович и Е. С. Корчминой, которые на протяжении всех этих лет были всегда готовы поддержать, помочь, покритиковать и поделиться идеями. Отдельно хотелось бы высказать признательность за всегдашнюю поддержку научному руководителю Центра А. О. Чубарьяну. Н. Ф. Немцева оказала неоценимую помощь в подготовке рукописи к печати.
Разумеется, книга не могла бы состояться, если бы не неизменно профессиональная и доброжелательная поддержка со стороны уважаемых коллег – сотрудников Российского государственного архива древних актов, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного архива военно-морского флота, других архивов и библиотек, в которых мне довелось работать. Эрнст Петрич и Лена Аннимер крайне любезно предоставили мне копии архивных документов из OeStA/HHStA в Вене и Riksarkivet в Стокгольме, соответственно. Я глубоко признателен О. Г. Промптовой, которая согласилась помочь с получением необходимого мне изобразительного материала из Черногории.
Я глубоко благодарен за поддержку друзьям и коллегам во Франции. Владимир Берелович, Ален Блюм и Франсуаза Досе неоднократно принимали меня в Центре исследований России, Кавказа и Центральной Европы (CERCEC), в том числе как лауреата стипендии Дидро в 2010–2012 годах. Анн Ле Уеру и Марта Кравери на протяжении многих лет оказывали неоценимую поддержку от лица Дома наук о человеке, предоставив возможность провести два месяца в 2015 году в парижских архивах и библиотеках в качестве приглашенного исследователя. Сотрудница секретариата Дома наук о человеке Соня Кольпар до своего выхода на пенсию неизменно была самым настоящим ангелом-хранителем российских гуманитариев, приезжавших с исследовательскими целями в Париж.
На завершающей стадии работы над рукописью мне посчастливилось провести время в качестве приглашенного исследователя в Институте наук о человеке (IWM) в Вене и в Международном центре Вудро Вильсона в Вашингтоне. Я признателен руководству этих организаций, и в особенности Ивану Крастеву в IWM, Мэтью Рожански и Уильяму Померанцу в Центре Вильсона, за возможность отвлечься от текущих дел и сосредоточиться на доработке книги. Среди прочего мое пребывание в Центре Вильсона позволило мне представить отдельные главы этой работы в целом ряде американских университетов. Рад, что выход этой книги на русском языке дает мне возможность еще раз выразить благодарность многочисленным коллегам, принявшим участие в обсуждениях и высказавших ценные замечания, но особенно Майклу Дэвид-Фоксу, Янни Коцонису, Дэвиду Гольдфранку, Екатерине Евтухов, Питеру Холквисту, Ричарду Вортману, Роберту Джераси, Дэвиду Макдоналду, Джону Рэндольфу, Полу Бушковичу, Юрию Слёзкину, Алексею Юрчаку, Скотту Гельбаху и Дейву Дэвидсону, сделавшим эти обсуждения возможными.
Крайне полезной, разумеется, была и возможность представить предварительные результаты моей работы в Европейском университете в Санкт-Петербурге, в РАНХиГС и в Уральском федеральном университете. Особенно я благодарен за сотрудничество Д. А. Редину, собравшему вокруг себя блестящую команду историков и превратившему Екатеринбург в один из ведущих мировых центров изучения России XVIII века. О. Е. Кошелева, Никос Криссидис, В. С. Ржеуцкий, Т. В. Костина и А. М. Феофанов любезно и очень щедро делились своими идеями, материалами и (тогда еще) неопубликованными работами. На разных стадиях работы над книгой Бен Эклофф, Гари Маркер, Харли Бальцер и Роб Коллис согласились прочитать фрагменты рукописи и высказали ценные замечания.
В Центрально-Европейском университете мне повезло работать с выдающимся историком Российской империи Альфредом Дж. Рибером, знакомство с работами которого подстегнуло мой интерес к бюрократической политике. Ключевую роль в формировании моего подхода к проблеме институциональных новаций в образовании сыграли работы С. Л. Козлова, а беседы с Сэмом Грином и В. Я. Гельманом помогли мне, хотя бы до некоторой степени, взглянуть на проблему административного предпринимательства сквозь политологические очки. Коллеги из Института образования НИУ ВШЭ, и в особенности И. Д. Фрумин, не давали мне забыть, что изучение истории школ может и должно помогать нам лучше понимать наши сегодняшние споры об образовании – и наоборот. Наконец, было бы странно отрицать, что на мои размышления о прожектерах и прожектерстве сильнейшим образом повлияло общение с выдающимися административными предпринимателями в области образования – С. М. Гуриевым, Д. В. Ливановым, Я. И. Кузьминовым, В. А. Мау, С. Э. Зуевым, О. В. Хархординым, С. М. Реморенко, С. М. Кадочниковым, И. Д. Фруминым, С. В. Салиховым, А. А. Климовым, А. Б. Повалко – и я глубоко благодарен коллегам за полученный опыт.
В завершение остается сказать особые слова благодарности нескольким дорогим друзьям и коллегам. Эрик Зитцер всегда был готов поделиться своими обширными знаниями и яркими идеями. Катя Правилова поддерживала и советовала, когда поддержка и совет были особенно нужны. Трейси Деннисон подталкивала, подбадривала и направляла на протяжении вот уже более чем двух десятков лет. И конечно же, эта книга едва ли состоялась бы без помощи, советов и поддержки со стороны Дона Роли. Хотя формально он и не был моим научным руководителем, он принял меня в ряды своих учеников как лидер аспирантской программы в Университете Северной Каролины и оставался ментором на протяжении последующих двух десятилетий.
Никогда не была бы книга завершена, конечно, и без поддержки Кати и Пети, которые не просто терпели мою привычку допоздна засиживаться за письменным столом, возиться с черновиками рукописи во время каникул и убегать в архив в самые неподходящие моменты, но придавали смысл и значение этой работе.
И наконец, мои заключительные слова благодарности обращены к Дэвиду и Карен Грифиттс. Дэвид и Карен приняли меня в Чапел Хилле осенью 1999 года и поддерживали на протяжении всей моей учебы в аспирантуре. Профессор Гриффитс был не только замечательным знатоком истории России и Европы XVIII века, но и одним из самых щедрых и добрых людей, которых мне доводилось встречать. К сожалению, он не дожил до выхода этой книги: надеюсь, она бы ему понравилась. Его памяти она и посвящена.
* * *
Я глубоко признателен И. Д. Прохоровой и издательству «Новое литературное обозрение» за возможность представить эту книгу российской аудитории. Работа над подготовкой русского издания книги позволила обнаружить и исправить целый ряд досадных оплошностей, вкравшихся, к сожалению, в ее английскую версию; учесть некоторые новые работы по теме, вышедшие за последние два года; а в некоторых случаях и включить кое-какие дополнительные материалы.
Монография подготовлена в результате проведения исследования (проект № 15-01-0148) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2015–2016 годах и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
ВВЕДЕНИЕ
Сильвестра Медведева вывели на эшафот на Красной площади подле Спасских ворот 11 февраля 1691 года. Ученый монах был приговорен к смерти еще за год до того: его обвиняли, ни много ни мало, в намерении извести царя Петра и патриарха Иоакима, посадить на престол царевну Софью, а себе самому присвоить патриаршество. Но казнить Сильвестра правительство Нарышкиных не спешило: от него требовали показаний, которые изобличали бы других предполагаемых сторонников Софьи. Этого, однако, добиться не удалось даже после «истязания его огнем и бичами до пролития крови». Теперь, наконец, мучениям пришел конец: книжнику отрубили голову, а тело похоронили в яме близ Покровского убогого монастыря, вместе с трупами нищих1.
Среди прочего, Медведев был автором и «Привилегии на Академию», первого в России проекта школьного устава, в самом названии которого заложена отсылка к западноевропейским образовательным моделям2. Вероятнее всего, монах подготовил «Привилегию» еще в 1681 году, намереваясь представить ее царю Федору Алексеевичу. После смерти Федора Медведев еще раз попытался добиться ее утверждения, на этот раз царевной Софьей, но снова потерпел неудачу. Правительница какое-то время колебалась, но в итоге поручила создание училища недавно прибывшим из Греции братьям Лихудам: судя по всему, это была уступка патриарху в тщетной надежде заручиться его поддержкой в противостоянии с юным Петром и стоящими за ним Нарышкиными3. Такое решение, разумеется, спровоцировало ожесточенную вражду между Медведевым и поддержавшей Лихудов группировкой, вылившуюся в публичный теологический спор с неизбежными в таких случаях взаимными обвинениями в ереси. Пока Софья оставалась у власти, она и ее ближайший приспешник Федор Шакловитый, глава Стрелецкого приказа, защищали Сильвестра от его недругов, в число которых теперь входил и сам патриарх. Но с падением в 1689 году режима Софьи эти связи лишь окончательно обрекли монаха на гибель4.
История Сильвестра Медведева поучительна в нескольких отношениях. Наиболее очевидным образом она напоминает нам, что политические столкновения той эпохи сложно описывать как борьбу между «модернизаторами» и «консерваторами». Группировка, которая свергла в 1689 году Софью и привела к власти Петра, включала также и целый ряд изоляционистски настроенных представителей элиты, в том числе и самого патриарха, тогда как на противоположной стороне мы находим таких ведущих «западников», как князь В. В. Голицын и сам Медведев. Скорее, политические альянсы формировались в ту эпоху не на основе идеологий, а по принципу принадлежности к аристократическим кланам и патрон-клиентским сетям. Одновременно этот эпизод показывает, как тесно попытки Медведева основать академию были переплетены с его политическими интригами. Амбиции монаха, его жажда власти и статуса прямо определяли и приемы, с помощью которых он продвигал свой образовательный проект, и облик училища, которое он хотел создать.
И в самом деле, в «Привилегии» удивительно мало говорится о содержании и методах преподавания в будущей академии. Вместо этого в документе заложена попытка установить единоличный контроль ректора за любым вообще преподаванием мало-мальски продвинутых предметов во всем Московском государстве. Среди прочего, «Привилегией» запрещается преподавание греческого, польского, латинского и других иностранных языков где бы то ни было, кроме академии, даже в частных домах, без предварительного одобрения со стороны ректора академии. Академия должна была также играть роль своего рода инквизиции, исследуя религиозные воззрения иноземных учителей, намеревавшихся преподавать в России; содержание подозрительных книг; случаи публичного поругания православной веры и церковных традиций и так далее. Более того, согласно тексту «Привилегии», академия, по сути, выводилась из-под власти патриарха – не потому, конечно, что Медведев был ранним сторонником секуляризации образования, но потому что он состоял в конфликте с тогдашним главой церкви. Поэтому в документе также перечисляются и многочисленные монастыри, которые должны были быть переданы, вместе с принадлежащими им вотчинами, на содержание академии. Наконец, в тексте делается и попытка заручиться твердыми гарантиями со стороны монарха, который, утверждая «Привилегию», обязался бы также от своего имени и имени своих наследников академию «содержати во всякой целости без всякого изменения».
Итак, составленный монахом проект «Привилегии» был направлен, называя вещи своими именами, на монополизацию образовательного поля, устранение конкурентов и присвоение его автором некоторых ресурсов и полномочий. Медведев основывался на более ранних наработках своего бывшего учителя, поэта и придворного проповедника Симеона Полоцкого (1629–1680)5, но непосредственно к составлению документа и к попыткам добиться его утверждения монаха подтолкнуло, похоже, прибытие в Москву некоего Яна Белобоцкого, который предлагал здесь свои услуги в качестве преподавателя и потому был воспринят Медведевым как опасный соперник, – а также успех другого конкурента, монаха Тимофея и его Типографской школы. Как замечает по этому поводу Б. Л. Фонкич, «честолюбивые замыслы, ревность и ненависть к возможным противникам своих планов – вот что водило пером Медведева в те месяцы, когда он сочинял „Привилегию на Академию“»6.
ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ ПОСТРОИЛ ПЕТР?
Судьба Медведева и его попыток добиться утверждения своей «Привилегии» интересна не просто как исторический анекдот: на примере этого эпизода наглядно видно, как вообще происходили институциональные изменения на заре Нового времени. Как показывают многочисленные примеры, разбираемые в этой книге, новые институты не возникали «сами по себе» и не вызывались к жизни ни некоей безличной волной «европеизации», ни потребностями войны и технологического прогресса. Наоборот, возникновение новых институтов и укоренение новых организационных форм следует рассматривать в первую очередь как результат усилий, предпринимавшихся вполне конкретными индивидами и группами для реализации их личных проектов и достижения их собственных целей – карьерных, материальных, идейных, а чаще всего их сочетания. Проекты эти могли быть самого разного характера и масштаба. В некоторых случаях речь шла о создании новых организаций, например, об основании Московского университета (1755) или Горного училища (1773), в других – об изобретении новой правительственной должности; описании новой административной функции; введении нового регламента. В значительной мере рост государства и в России, и в других странах происходил постольку, поскольку он создавал предприимчивым деятелям благоприятные условия для реализации их инициатив. Проекты, которые они придумывали и воплощали в жизнь, служили теми кирпичами, из которых на пороге Нового времени складывалось здание «рационального» и «бюрократического» государства.
Данная книга представляет собой попытку изучения этого процесса на примере развития школ в России на ключевом этапе строительства модерного государства, при Петре I и его ближайших преемниках. Вообще, основание новых школ, «просвещение» России является и в историографии, и в общественном восприятии важнейшим, знаковым элементом петровского царствования и петровских реформ. Обычно предполагается, что образовательные новации эти были обусловлены практическими, а вернее военными нуждами, поскольку создание новой регулярной армии требовало квалифицированного технического персонала. В более широком смысле новые школы и новые методы обучения рассматриваются как ключевой элемент развернувшегося в России в XVIII веке эксперимента по социальному инжинирингу, попыток создать «нового человека» и новую, «европеизированную» элиту7. Наконец, петровская школа воспринимается как предвестник модерных училищ следующего столетия, воплощающих в себе рациональность, маскулинность, дисциплину, имперскость. Подобно военному кораблю или шеренге вымуштрованной пехоты, школа вполне может служить символом петровского режима и его институтов.
И за рассматриваемый период школа в России действительно изменилась до неузнаваемости. В XVII столетии обучение в Московском государстве было основано на неформальных практиках передачи знаний от наставника к ученику8. Когда в самом конце века стали появляться первые школы, они описывались, по сути, в ремесленных терминах: «школа» была группой учеников, собирающихся вокруг «мастера» и его «подмастерьев». Мы не находим здесь ни фиксированной программы обучения, ни делопроизводства (помимо самого базового учета расходов), ни попыток формализовать алгоритмы взаимодействия между учителем и его учениками. Однако уже ко времени восшествия на престол Екатерины II в 1762 году Россия могла похвастаться целым набором учебных заведений, которые в организационном отношении не так уж сильно отличались от классических школ XIX века. В этих училищах имелись регламенты и инструкции, где устанавливались, среди прочего, иерархия должностей, функциональное разделение обязанностей; регулировался учебный процесс и повседневное поведение учеников и учителей; вводились формализованные процедуры оценки знаний и поведения. Иначе говоря, мы уже имеем дело с полностью институциализированной школой. Школа эта должна была не только давать знания, но и подталкивать учеников к усвоению предписываемых моделей поведения и мышления, то есть, «воспитывать». Вопрос, на который призвана ответить данная книга, состоит в том, как именно возникали такие школы – и, более широко, новые институты и практики, из которых складывалась инфраструктура раннемодерного государства вообще.
Сама необходимость задаваться подобным вопросом может показаться неочевидной, поскольку ответ на него вроде бы понятен заранее. Подобно любым другим нововведениям в России в первой половине XVIII столетия, новые школы обычно описываются как результат титанических усилий самого вездесущего царя-реформатора. Классические тексты и отечественных историков, и зарубежных почитателей часто представляли Петра I как настоящего Прометея, для которого прогресс и «европеизация» оказываются непреодолимой внутренней потребностью. В работах последнего времени подход царя к нововведениям, в том числе и в образовании, описывается более осторожно, подчеркиваются его прагматизм, непоследовательность, даже оппортунизм; он может представать как реформатор без стратегии, реформатор, которым движут весьма приземленные, практические соображения – но все равно ключевым двигателем реформ является именно он. В частности, говоря о школах, мы по-прежнему считаем, что, в отличие от Западной Европы, где «образовательные теории и школы разного рода появлялись обычно как результат индивидуального экспериментирования», в России «серьезные инициативы в образовании были делом рук императора, и только императора»9. Разумеется, не приходится отрицать, что Петр I и в самом деле лично инициировал множество изменений и играл определяющую роль в создании целого ряда новых институций. Царь мог не покладая рук работать над важными для него проектами, часами и сутками напролет редактируя черновики Устава морского или коллежских регламентов10. Однако Пол Бушкович совершенно справедливо предостерегает нас от восприятия Петра как «некоего Deus ex machina, словно по мановению волшебной палочки творящего изменения в обществе как в безвоздушном пространстве»11.
По крайней мере применительно к школам миф о Петре-демиурге, как я надеюсь показать ниже, плохо согласуется с источниками. При ближайшем рассмотрении оказывается, что сам Петр I не написал ни одного мало-мальски развернутого текста об образовании; те тексты, которые мы имеем в нашем распоряжении, представляют собой записки в несколько строчек, написанных петровским фирменным трудночитаемым почерком. Взгляды и представления царя по данному вопросу мы вынуждены реконструировать на основании именно таких записочек – или на основании официальных указов, которые могли быть основаны на данных им устных распоряжениях. При этом сам факт таких разговоров зачастую постулируется без всякого подтверждения источниками: исследователи полагают априори, что государь не мог не иметь со своими соратниками бесед, в ходе которых якобы и были сформулированы соответствующие идеи. Если же строго придерживаться источников, то окажется, что хотя Петр всячески настаивал на необходимости «учить» подданных, он практически никогда не объяснял, что же конкретно это может означать. Приходится признать, что между его короткими, крайне расплывчатыми призывами к учению и конкретными организационными действиями в области образования лежала дистанция огромного размера. Его сотрудники должны были заполнять эту дистанцию в меру собственного разумения, тем способом, который был наиболее удобным и выигрышным для них самих.
Далее, говоря о петровских образовательных нововведениях, недостаточно, конечно, просто указывать на заимствования из западноевропейского опыта, поскольку на начало XVIII века и в самой Западной Европе не сложилось еще устоявшихся, привычных нам сегодня форм школьной подготовки чиновников и офицеров для зарождающегося «регулярного» государства. Да и в практическом смысле институциализированные школы не были, строго говоря, необходимы для подготовки профессиональных моряков или военных: не случайно опытные специалисты, бывалые генералы и адмиралы, никогда и не были активными сторонниками создания школ. Обычно они, наоборот, считали гораздо более важной и полезной подготовку кадров через практику. Вобан, величайший военный инженер той эпохи, так высказывался о выпускниках кадетских рот, основанных во Франции Кольбером: «Они не приносят службе никакой пользы, они ничего не видели, ни в чем не разбираются, и не думают ни о чем кроме фехтования, танцев и драк». В созданной самим Вобаном инженерной службе французской армии, corps du génie, молодые люди обучались не в школе, а на практике, чертя планы крепостей и укреплений12. Характерно, что фельдмаршал фон Миних, основатель Сухопутного шляхетного кадетского корпуса в России, сам в школе никогда не учился. Однако познаний, которые он приобрел, читая книги и наблюдая за инженерными работами в своем родном Ольденбурге и в Дании, где служил его отец, Миниху хватило, чтобы произвести благоприятное впечатление на Петра и успешно довести до конца строительство Ладожского канала13.
Представлять возникновение школ в России в начале XVIII века просто как импорт организационных форм было бы поэтому неверно: в действительности школы эти изобретались вполне конкретными акторами, действующими в собственных интересах и конкурирующими между собой в конкретных условиях петровской и послепетровской монархии. Отталкиваясь от различных западноевропейских образцов, они создавали новые образовательные модели, отражавшие их собственные политические цели, включая и стремление позиционировать себя тем или иным образом или присвоить тех или иные ресурсы. В этой книге делается попытка выявить и изучить таких игроков, понять методы, которыми они действовали, а значит, и логику, которая определяла изобретение раннемодерной школы в России в период с конца XVII века и до восшествия Екатерины II.
ПРИДВОРНАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
На кону, таким образом, стоит не только возникновение новой школы, но также рост и развитие институтов раннемодерного государства, его «рационализация» и «бюрократизация» в целом. На протяжении нескольких последних десятилетий историки Европы раннего Нового времени постепенно, но последовательно деконструировали историографическую абстракцию гиперактивной абсолютной монархии, которая якобы целенаправленно занималась построением благоустроенного «регулярного полицейского государства». На смену этой абстракции приходит представление о раннемодерных политических режимах как о продукте «сотрудничества» между монархами и элитами14. Если раньше предполагалось, что правители той эпохи – в том числе и сам Людовик XIV, на которого все они так или иначе равнялись, – с помощью эффективной, централизованной бюрократии безжалостно подавляли всякое сопротивление со стороны элит, то сегодня историки гораздо больше внимания уделяют политическим компромиссам и согласованию интересов. В частности, в работах по истории Франции подчеркивается ключевая роль аристократических сетей и кланов, которые одновременно и ограничивали произвол монархов, и становились ключевым инструментом, позволявшим им осуществлять управление. Все менее очевидно, существовало ли вообще в этот период что-то, хоть отдаленно напоминающее современный бюрократический аппарат: править и мобилизовывать ресурсы монархи могли прежде всего через придворные группировки и патрон-клиентские сети. Соответственно, политическая динамика в Европе раннего Нового времени определялась не противостоянием правителей-модернизаторов и реакционных элит, а переплетениями частных интересов отдельных семейств и аристократических кланов – и конкуренцией между ними15. Историки поэтому не только отказываются от представления о тогдашних режимах как об «абсолютных», но и все чаще описывают самих правителей-реформаторов как не слишком «модерных» в смысле их политических представлений, целей и методов действия.
Фокус на домодерных аспектах политических режимов характерен и для новейших работ по истории петровской и послепетровской России. Исследователи подчеркивают важность неформальных связей, личностных механизмов и родственных сетей для политического процесса этой эры в противовес формальным, обезличенным и рационально организованным структурам. В результате выдающиеся правители эпохи выглядят гораздо более ограниченными в своей способности реформировать и «модернизировать», чем мы привыкли о них думать; зачастую кажется, что они с трудом балансировали поверх враждующих аристократических кланов, а то и вовсе становились игрушкой в их руках. С учетом этого великий «петровский водораздел» кажется некоторым историкам не таким уж и непреодолимым, а пресловутое «регулярное» государство, построенное первым императором, – не более чем фасадом, за которым сохранялись традиционные управленческие практики, социальные отношения и культурные модели16. Даже сам Петр в смысле своих ментальных привычек и интеллектуального горизонта воспринимается скорее как человек московского барокко конца XVII века, чем как рациональный предтеча «просвещенного абсолютизма»17.
В самом деле, уже несколько десятилетий назад профессор Дэвид Л. Рансел обратил внимание историков на важность аристократических группировок и патрон-клиентских связей в придворной политике и в правительственных конъюнктурах екатерининской эпохи, в формулировании и воплощении в жизнь монаршей воли18. Изучая роль боярских кланов и дворянских родственных сетей в Московском государстве, историки также подчеркивают преемственность в этом отношении между допетровской и послепетровской политическими системами19. Относительно недавно в работе П. В. Седова была предложена детальная хроника борьбы придворных фракций последних десятилетий XVII века, а Пол Бушкович в своем новаторском исследовании предположил, что и сам Петр управлял страной, балансируя поверх соперничающих группировок элиты, среди которых преобладали все те же самые боярские кланы, что правили страной и в предшествующем столетии20. Эти исследования «традиционных» аспектов политической истории хорошо сочетаются с работами, подчеркивающими влияние культурных практик XVII столетия на саморепрезентацию Петра как монарха. Даже заявляя о своем радикальном разрыве с прошлым, царь делал это во многом в рамках позднемосковской семиотики21. Недавние работы, посвященные государственному управлению в начале XVIII века, также показывают, как далеко оно отстояло от идеала рациональной, централизованной и эффективной бюрократии22.
Вопрос, таким образом, состоит в том, как нам объяснить несомненно наблюдаемое в XVIII веке расширение и рационализацию государства, усложнение и повышение эффективности все более инвазивных инструментов сбора информации и регулирования – не теряя при этом из виду и столь же несомненное преобладание «традиционных, персоналистских моделей» в этот период23. Ответ на этот вопрос, как кажется, предполагает описание самого зарождения институтов раннемодерного государства как раз из того непрестанного соперничества различных неформальных иерархий и сетей, которому справедливо уделяется столь существенное внимание в современной историографии. Характерные для раннемодерного политического процесса неформальность и персонализм должны быть прямо интегрированы в наш нарратив не только как напоминание о господстве «традиционного» на данном этапе, но и как ключевой механизм, способствовавший выработке более современных, «рациональных» и «регулярных» институтов. Это, в свою очередь, предполагает признание субъектности, «агентности» (agency) за многочисленными индивидами, действующими на самых разных социальных уровнях – субъектности не только в смысле способности избегать, саботировать или оппортунистически использовать исходящее из центра движение к «модерности», но и в смысле способности самим активно порождать такие изменения посредством целенаправленных, сознательных и стратегических действий24. Наконец, мы должны объяснить, почему институты, которые мы – в ретроспективе – воспринимаем как модерные, «рациональные» и «регулярные», были выгодны этим игрокам настолько, что они готовы были прилагать значительные усилия для их создания. Говоря иначе, наше объяснение должно демонстрировать, как именно эти институты возникали в итоге многоуровневой и многовекторной конкуренции между различными игроками, действовавшими каждый в своих собственных интересах.


