
Коллектив авторов
Традиции & Авангард. №1 (8) 2021
Проект «Народное слово»
ТРАДИЦИИ
&
АВАНГАРД
Издается с 2018 года
При поддержке Агентства по печати и массовым коммуникациям
© Интернациональный Союз писателей, 2021
Проза, поэзия
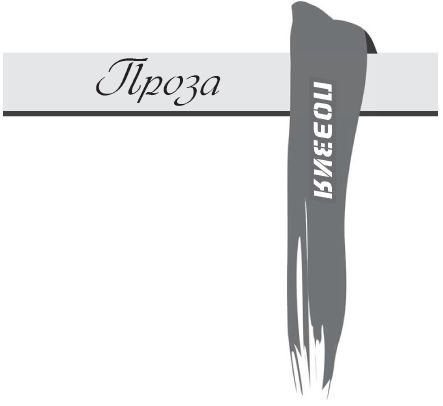
Елена Бальбурова

Родилась в 1970 году на Украине, в городе Днепропетровске. Большую часть детства провела в Забайкалье, в столице Бурятии городе Улан-Удэ, откуда родом ее отец. В 1985 году семья переехала в Новосибирский Академгородок. Окончила Новосибирский государственный университет по специальностям «русская филология» и «востоковедение», изучала японский язык. В первые годы после университета работала переводчицей, несколько раз была в Японии.
В 1990-е стала автором и ведущей популярной телепрограммы на новосибирском телевидении, параллельно начала работать редактором в глянцевом журнале. С 2007 года живет в Москве.
Художественную прозу начала писать только нынешней весной. Повесть «Больница» – ее первый опыт.
Больница
Повесть
1
Рыжая врачица с отросшими на полголовы седыми корнями надвинула на глаз круглое зеркало с дырочкой посередине и, обдав Лелю крепким духом только что выкуренной сигареты, приказала:
– Открывай рот, красавица.
– Только не надо этой штукой на язык давить, – остановила Леля ее руку с блестящим шпателем. – Я сама открою.
– А что такое? – удивилась врачица.
– У меня повышенный рвотный рефлекс.
– Ишь, какая грамотная, – повернулась лор к Лелиной маме. – Ну давай, открывай сама.
Леля глубоко вдохнула, прижала язык книзу, чтобы он не мешал обзору, расслабила гортань и широко открыла рот. Это был ее фирменный трюк, отработанный на участковых врачах из детской поликлиники, всю жизнь норовивших залезть ей в горло своей железякой.
– Ты смотри, какая панорама! – восхитилась лор-врачица. – До желудка все видать. Молодец, закрывай.
В общем-то, горло врач посмотрела для проформы. У нее уже были Лелины анализы крови и рентген, который показывал уровень жидкости в гайморовых пазухах. То есть двусторонний гайморит.
Перед тем как попасть в кабинет лора, Леля с мамой истомились в коридоре детской поликлиники. Леля успела наизусть выучить написанную от руки печатными буквами стенгазету, посвященную ОРЗ и ОРВИ, а мама, с саркастической улыбочкой оглядывая сопливую очередь из хнычущих малышей, угрюмых школьников и грустного мальчика с повязкой на ухе, тихонько приговаривала: «Да-а-а, встряли мы тут с тобой до вечера». Особенно тоскливо становилось, когда врач вдруг выходила из своего кабинета и, бросив: «Не заходить, приглашу», удалялась в неизвестном направлении.
Мама работала корреспондентом в главной республиканской газете «Правда Бурятии», и, чтобы пойти с Лелей в поликлинику, ей пришлось отпрашиваться у главреда. Леля прекрасно могла бы сходить к врачу и одна, но тут вопрос был серьезнее, чем просто взять справку. Решалось, нужно ли ей ложиться в больницу.
– Ну что я вам скажу, девочки, – по очереди глядя то на маму, то на Лелю, торжественно заявила врачица, – обострение гайморита, в пазухах гной, надо госпитализировать и лечить.
– И пункции придется делать? – тревожным голосом спросила мама.
– А как же, – уже не глядя на них и копошась в каких-то бумагах, с энтузиазмом отозвалась врачица, – и пункции, и уколы, и таблетки. Это же гайморовы пазухи – голова, рядом мозги. Тут не до шуток. Так, Ольга Базарова, сколько полных лет?
– Тринадцать, – притихшими голосами хором отозвались мама и Леля.
На улице уже стемнело, и в лицо резанул ледяной ветер.
«Первое марта, называется», – подумала Леля.
До настоящей весны в этих краях было еще очень далеко, и она натянула на нос вязаный шарф. Мамина подруга, тетя Люда, еще осенью научила ее вязать модной английской резинкой – лицевую петлю провязываем, изнаночную с накидом снимаем, – и Леля связала себе длиннющий шарф с кистями из черно-бордовой меланжевой пряжи. Муж тети Люды, дядя Стас, работал главным инженером на тонкосуконном комбинате, где как раз и производили шерстяную пряжу. Просто так купить ее в магазине было невозможно – поставки разлетались по всей стране и уходили в торговую сеть, как вода в песок. Но у тети Люды пряжа самых красивых расцветок была всегда, она и подарила три мотка Леле. Двухметровый шарф с кистями был писком моды и предметом постоянных препирательств с учителями. Девчонки, у кого были длинные шарфы, не оставляли их в раздевалке, а гордо шли на уроки, намотав поверх белого воротничка школьной формы.
– Базарова, Тарханова, немедленно снимите свои кашне! – требовала классная.
– Ну холодно же в школе, Раиса Дмитриевна, – ныли Леля и ее подруга, модница Иришка Тарханова.
Мама у нее была заведующей складом, и Иришка уже в шестом классе к всеобщей зависти ходила с дипломатом и носила финские сапоги на «манке».
– Мы в них руки греем, вот, смотрите! – И девчонки заворачивали свои шарфы наподобие муфты.
– На перемене грейтесь, – была непреклонна Раиса Дмитриевна, – а на уроке извольте снять свои удавки. И, Тарханова, где опять твой пионерский галстук?
Пышноволосая Иришка уже в двенадцать лет обзавелась округлой женственной фигуркой с тоненькой талией и выглядела скорее как миниатюрная десятиклассница. Леля тоже, наплывая километры в бассейне, как-то внезапно вытянулась в стройную, длинноногую атлетку с красивой осанкой и заметной грудью. Носить красные галстуки девчонкам было стыдно. Не потому, что они имели что-то против пионерской организации. Просто галстуки предательски выдавали возраст.
Леля уже наполовину связала шарф и маме. Мама вязать не умела, да и не собиралась – ей всегда надо было что-то писать. Она писала интервью и очерки, рецензии и репортажи. Писала на серых листах писчей бумаги ровным, разборчивым почерком отличницы, нумеруя листы вверху, вынося на поля правки и выделяя фигурной скобкой и стрелочкой куски текста, которые следовало перенести в другое место. Потом она относила рукописи в редакционное машбюро, где всегда стоял жуткий грохот печатных машинок, и рукописные мамины буквы превращались в машинописные тексты, чтобы потом отправиться на редактуру, а затем – в набор. Мама писала в редакции, а по выходным – дома, в комнате под условным названием «кабинет», в котором по будням папа писал свою кандидатскую диссертацию.
– Ладно, дочь, не дрейфь, – бодрым голосом заговорила мама, шагая против мерзкого, пронизывающего до костей ветра. – Пункции – это, конечно, жуть, но заведующий лор-отделением – вот такой дядька! – Мама показала кулак с оттопыренным большим пальцем. У нее были молочно-белые варежки с красивым орнаментом. – Александр Цыренович, я о нем очерк писала в прошлом году.
Видеть мамины статьи в ежедневной газете было для Лели делом привычным, хотя, если честно, газеты Лелю не интересовали. На первой странице, или, как говорила мама, на первой полосе, всегда было какое-то занудство про Политбюро ЦК КПСС, на второй – вести с полей и заводов. Вот на третьей становилось поинтереснее – научные открытия и спорт, театры и заезжие звезды эстрады. Ну а на четвертой полосе была сборная солянка – фельетоны, стихи местных авторов, полезные советы по домашнему хозяйству, кроссворды и объявления о том, кто умер и когда приходить проститься. Это называлось «некрологи». Маленькие прямоугольные рамочки в самом низу страницы, а в них очень короткий текст. Леля иногда считала, сколько лет было человеку, который умер, потому что указывался год его рождения. Обычно это были пожилые люди, но однажды Леля посчитала и испугалась – девочке было всего семь лет. Но что с ней случилось, в маленьком некрологе сказано не было.
Леля натянула свой шарф повыше, закрывая лицо от ветра. Они шагали вверх по улице Бабушкина, мимо универсама «стекляшка», где по субботам были давки в очередях за вареной конской колбасой. Мимо проката, где Леле взяли пианино, когда она пошла в музыкальную школу, чтобы не покупать свое, и теперь, вот уже шестой год, платили за него два рубля каждый месяц. Мимо «Дома торговли», где изредка бывал какой-нибудь дефицит и недавно Леле купили спортивный костюм. Не импортный, но все равно. Он был шоколадного цвета, с белыми полосками на манжетах и воротнике, а воротник – на молнии. Леле он очень шел, она его просто обожала.
Ветер швырял в лицо мелкие снежинки, и они больно кололи лоб и щеки. Мимо продребезжал трамвай. Вообще-то до дома можно было доехать, но мама предложила идти пешком, чтоб не мерзнуть неизвестно сколько на остановке. К тому же она очень надеялась успеть на премьеру «Медеи» в Театр русской драмы. Рецензию на спектакль ждали в номер, и у мамы теперь были все шансы, поскольку до театра от дома пешком было три минуты. Лелю всегда удивляло, что с одной стороны от их дома находилась городская цивилизация в виде института культуры, драмтеатра и большого торгового центра, а с другой – буквально через дорогу – город заканчивался. Приземистые деревянные домишки частного сектора спускались с крутого косогора к притоку Уды, который все называли «протокой», дальше простиралась равнина, вдали виднелись дачные кооперативы, а за ними – поросшие густой тайгой сопки.
Леля, конечно, дрейфила, потому что больница, гайморит, пункция – все это звучало жутковато. Зато в больнице не будет пианино – это плюс. Когда она болела дома, заниматься музыкой, если нет температуры, надо было все равно. Лелина одноклассница Маринка однажды лежала в больнице, ей вырезали аппендицит. И подруга Настя лежала – ей делали зондирование, заставляли глотать какой-то длинный шланг, а в палате после отбоя девчонки рассказывали страшные истории, как в пионерлагере. В общем, было весело. Но Леля не думала, что когда-нибудь ее тоже положат в больницу! Болела она не чаще других. Так, простуда пару раз за учебный год. Только однажды, во втором классе, когда ее опять отправили на целый год к бабушке на Украину, у нее была по-настоящему сильная гнойная ангина. Участковый врач заглянул к ней в горло и сказала бабушке что-то такое, от чего та схватилась за сердце. Леля тоже хотела посмотреть, что там творится. Когда ее оставили в комнате одну, она выбралась из постели и взяла со стола круглое зеркальце на ножке – с одной стороны обычное, а с другой – увеличительное. Открыла рот, но видно ничего не было. Тогда Леля подошла к окну, встала так, чтобы на лицо падал дневной свет, и открыла рот уже как следует. Как она сделала это сегодня у рыжей врачицы. Картина Лелю изумила – в глубине горла у нее как будто бы росли два мухомора: ярко-красные гланды были усыпаны мелкими белыми точками.
В тот раз у нее была самая высокая в ее жизни температура – тридцать девять и шесть. Ей снились странные тягучие сны и какие-то крупные шершавые существа на тоненьких липких комариных ножках. Когда много лет спустя, уже студенткой, Леля впервые увидела картины Дали, то сразу поняла, что они ей напоминают.
Как только Леля выздоровела, бабушка сразу же повезла ее через весь город на прием к своей школьной подруге Любовь Семеновне, известному лор-врачу. От этого визита у Лели осталось два воспоминания – ужасное и прекрасное. Ужасным было то, что бабушкина подруга как бы невзначай зашла сзади за стул, на который усадили Лелю, и внезапно запустила ей в рот всю свою пятерню, да так глубоко, что ее пальцы чуть не вылезли у Лели через нос. У нее потемнело в глазах, и, когда Любовь Семеновна наконец вытащила руку, Леля хотела разреветься, но чудом сдержалась и только затаила лютую обиду. Не потому, что Любовь Семеновна сделала ей больно, а потому, что не предупредила, не объяснила, что таким образом проверяют аденоиды, а вместо этого взяла и напала сзади, как враг! А Леля бы поняла и спокойно потерпела, она же не дурочка.
Ну а прекрасным было то, что Любовь Семеновна объяснила бабушке, что удалять гланды не надо: они защищают весь организм, принимают удар на себя. А аденоиды, за которыми она, собственно, лазила Леле в носоглотку, удалять тоже не требуется. Они, скорее всего, сами исчезнут «в пубертатный период».
Сейчас Леля вообще не чувствовала себя больной. Рядовое февральское ОРЗ прошло, от него остался только заложенный нос. Но это ведь ерунда, подумаешь! Иногда к вечеру начинала болеть голова, и неприятно было, если надавить пальцами на лицо возле носа. Леля даже начала снова ходить на тренировки в бассейн. Какая же она больная без температуры?! Но лор-врач в детской поликлинике так не считала, она назвала это осложнением и назначила рентген. И вот теперь, уже в понедельник, Леля ляжет в настоящую взрослую больницу.
2
Республиканская больница оказалась красивым зданием в сталинском ампире. Утро выдалось морозным и очень солнечным, огромные сугробы вдоль расчищенной спозаранку дорожки искрились, как дождик на новогодней елке. Широкое парадное крыльцо четвертого корпуса с белыми колоннами выглядело торжественно и напоминало фасад оперного театра, а потолки в приемном покое были, наверное, пять метров высотой. Александр Цыренович встретил их сам. Смуглый, поджарый, как спортсмен-легкоатлет, в очках с металлической оправой и с черными с проседью волосами, он тепло пожал маме руку. Пробежал глазами направление, улыбнулся: «Не думал, Татьяна, что такая взрослая дочка у вас. И так похожа на маму». Не успела Леля оглянуться, как медсестра уже вела ее в какую-то подсобку, где пришлось оставить свое зимнее пальто и переодеться в захваченный из дома байковый халатик и домашние тапочки.
Дальше Лелю повели по широкому коридору лор-отделения к дверям седьмой палаты. Острый, тревожный больничный запах здесь был еще сильнее. Навстречу Леле, шаркая тапочками, прошел высокий худой мужчина в пижаме, висевшей на нем, как на пугале, и Леля в ужасе округлила глаза: в горле у мужчины зияла дыра, а в нее, зафиксированная кусками пластыря, была вставлена металлическая трубка. Леля никогда в жизни не видела ничего подобного. Вообще в больнице, прямо там, где лежат больные, Леля была только однажды, ей было тогда лет пять. Они с бабушкой приходили проведать бабушкину подругу тетю Соню. Когда-то они преподавали в одной школе: бабушка – русский и литературу, а тетя Соня – физику.
У тети Сони был рак поджелудочной железы. Ей сделали операцию, и она лежала невероятно бледная, а глаза на худеньком лице из-за потемневших век казались огромными. Бабушка присела на стул у кровати, а Леле сесть было некуда, и тетя Соня легонько похлопала одними пальцами по краю постели: «Садись сюда, рыбонька». Она улыбалась Леле и бабушке, но очень осторожно. Казалось, будто она старается не шевелиться. Потом уже Леля узнала, что так оно и было, потому что боли, которые мучили тетю Соню до операции, после никуда не делись, а только стали сильнее, и ей все время кололи обезболивающие, которые плохо помогали. Они с бабушкой негромко говорили об операции, и бабушка спросила, приходил ли Лева, тети Сонин сын, и она ответила, что он – да, а Эльвира и внучка – нет. Это была тети Сонина драма – какой-то ужасный разлад с невесткой, а из-за нее и с единственным сыном. Леля не знала, в чем там было дело, но не могла понять, как с тетей Соней вообще можно поссориться и как можно ее не любить? Леля слышала, как тем же вечером бабушка дома говорила кому-то по телефону: «Сонечка еще в больнице, да. Врачи сказали, что помочь уже невозможно. Разрезали и зашили». И горько-прегорько вздыхала.
Леля очень любила тетю Соню. У нее были пышные седые кудри и хорошая, ласковая улыбка. Один зуб в верхнем ряду был металлический, но не желтый, а серебристый, и это ее совсем не портило. Обычно тетя Соня приходила в гости к бабушке по вечерам. Они садились в кресла по обе стороны от журнального столика в гостиной, включали телевизор фоном, о чем-нибудь говорили и пили растворимый кофе со сгущенкой и печеньем «Днiпро». Кофе и сгущенка были из дефицитного бабушкиного пайка, который полагался ей как инвалиду войны. Бабушке все это было строго запрещено из-за диабета, поэтому сгущенка предназначалась Леле и гостям.
В то время они жили с бабушкой вдвоем. Летом мама прилетала из Улан-Удэ в отпуск, но каждый раз Лелю решали оставить на Украине еще на один год. Лелин папа был родом из Бурятии. Познакомились они с мамой в Ленинграде – вместе учились там в университете, а потом уехали к папе на родину.
«Улетела за пять тысяч километров в эту ледяную тундру», – сокрушалась бабушка.
Рожать Лелю мама приехала домой, на Украину, пока папа после университета служил в армии, и с тех пор ее так и не решались забрать в Улан-Удэ. Считалось, что климат там слишком суровый для ребенка.
С бабушкой было хорошо и спокойно, но Леля страшно тосковала, особенно по маме. В детский сад бабушка ее категорически не отдавала, хотя он был прямо под окнами их пятиэтажки, и Леля смотрела, как дети играли там все вместе в своих песочницах. Леля тоже играла – с девчонками со двора. Почему-то все они были старше – Наташка на год, Вита на два, а Лэся и Оксана вообще на три, они уже ходили в школу. Иногда девчонки не хотели брать Лелю в игру, потому что она маленькая. А иногда белобрысая Оксана, дочка дворничихи тети Гали, и Лэся, которая все за ней повторяла, говорили, что пусть Леля уходит, потому что у нее бабушка жидовка, а значит, она сама тоже жидовка. Леля не понимала, что именно это значит, но знала, что это какое-то очень обидное и страшное слово. И она уходила домой, и ей было очень-очень грустно. Но бабушке она не хотела ничего рассказывать и вообще произносить это гадкое слово. А на следующий день девчонки во дворе уже как будто ничего и не помнили и снова брали Лелю играть. А однажды Наташка и Вита показали ей, как делать веселый массаж. Нужно было приговаривать: «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый, вдруг из пятого вагона рассыпался горох…» – и все это изображать на чьей-нибудь спине. Леле особенно нравилась та часть, где в массаж приходит начальник и начинает печатать на машинке: «Я купил жене и дочке десять розовых платочков. «Вжик-вжик» – точка!» На «вжик-вжик» нужно было ткнуть пациента пальцами в бока, и пациент обычно хохотал от щекотки. А потом, когда начальник заклеивает конверт и ставит печать, надо было крепко стукнуть по спине кулаком.
Вечером, когда в гости пришла тетя Соня, Леля предложила: «Давайте сделаю вам веселый массаж, хотите?» Для этого тетю Соню специально усадили на табуретку, в кресле до спины было никак не достать. Леля очень старалась, и «вжик-вжик», и печать поставила как следует. А на следующий день тетя Соня рассказывала бабушке по телефону: «Бэла, представляешь, я чувствую утром, как-то побаливает спина. Посмотрела в зеркало, а у меня синяк под лопаткой. Лелечка массаж сделала от души, сильные ручки, надо ее в спортивную секцию отдать!» И было слышно в трубку, как она смеется.
Рак «сожрал» тетю Соню очень быстро, в считаные недели. Тогда, в больнице, Леля видела ее в последний раз.
– Проходи, вон твоя кровать, – пожилая медсестра легонько подтолкнула Лелю в бок, – а это твоя тумбочка. Передачи открытые не хранить, печенье, пряники, все в мешочках, и чтоб никаких крошек, а то тараканы набегут.
Тараканы. Это был самый страшный Лелин кошмар. Мама забрала ее с Украины перед самой школой. У бабушки ни о каких тараканах Леля не слыхала, поэтому, в первый же день столкнувшись с новой действительностью в виде огромного таракана практически у себя над головой, прямо в ванной комнате, Леля перепугалась до слез. Конечно, со временем она привыкла, что иногда в их стерильно чистой квартире появлялись «гости от соседей», которых немедленно уничтожали тапком или дихлофосом. Причем на время спецоперации Леля пряталась где-нибудь в дальнем углу. Но так, чтобы прямо в тумбочке возле кровати? Прямо возле подушки?..
– Ты че, так и будешь теперь стоять? – услышала Леля. – Че остолбенела-то? Тараканов боишься?
Девчонка лет шестнадцати сидела, облокотившись на спинку кровати и для удобства подсунув под спину подушку. У нее было невероятно конопатое, почти оранжевое от веснушек лицо и толстенная медно-рыжая коса, которую она перекинула на грудь. Правый глаз был заклеен пластырем. Из-под ворота застиранного байкового халата виднелась коричневая водолазка, а из-под подола торчали ноги в синих трениках и толстых серых вязаных носках.
– А они тут правда есть? – покосилась на тумбочку Леля.
– О-о-о, еще как! Днем прячутся, а ночью скачут по стенам, как кони, – закивала конопатая соседка.
– Блин, я тут вообще спать не смогу. – Леля нахмурилась и скривила набок рот.
– Да они на кровати не заходят. Ну, почти, – засмеялась девчонка. – Привыкнешь быстро! Тебе халат такой красивый тут, что ли, выдали?
– Нет, это я свой из дома принесла.
– А кофту взяла? Штаны какие-нибудь теплые, носки?
– Не-а, не подумала…
– Ты скажи, чтоб принесли тебе! Тут дубак, околеешь в одном халате-то. Я вот, смотри, все натянула, что было!
В седьмой палате с высоченными потолками и огромными окнами, от которых невыносимо дуло, было восемь кроватей: четыре по правой стене и четыре по левой. Все они были заняты. Леля успела заметить совсем старенькую бабушку у одного окна и интеллигентного вида пожилую даму в очках у другого. А на кровати, что ближе к дверям, сидела женщина с маленьким ребенком. Она пристально смотрела на Лелю, качая своего малыша, но взгляд ее уходил куда-то сквозь Лелю и, наверное, даже сквозь стену.
К спинкам правых кроватей был вплотную придвинут общий для всей палаты обеденный стол. На нем стояли закрытые капроновыми крышками разнокалиберные банки с домашним вареньем – смородиновым, малиновым, ранеткой. Некоторые уже почти пустые. Лежали завязанные на узел целлофановые мешки с пряниками и печеньем, кучкой стояли чашки, а рядом – картонная коробка с сахаром-рафинадом. В этом натюрморте не хватало чайника, но Леля этого сначала и не заметила. Две средние кровати у правой стены, к которым прижимался стол, были сдвинуты вплотную, как одна двуспальная. На одну из этих кроватей как раз и определили Лелю, на другой восседала рыжая девчонка, так что у них получалась как бы одна большая кровать на двоих.
– Тебя как звать? – спросила рыжая соседка.
– Леля.
– А полное имя как? – удивилась она.
– Ольга. Лелей меня дома зовут, ну и подружки тоже.
Девчонку звали Светка. Светка Гарипова. Она приехала в Улан-Удэ из Гусиноозерска и училась в ПТУ на водителя трамвая.
– А че, отличная профессия для женщины. Четко же на трамвае! Целый день ездишь по городу, смотришь вокруг. А зимой, когда холодрыга на улице, люди тебя ждут на остановке, выглядывают, едешь ты там, нет. А ты р-р-раз – подъехала и двери им открываешь. И все рады, ломятся внутрь, как лоси! – И Светка широко улыбалась своим веселым рыжим лицом. – А ты где учишься?
– В школе.
– А-а, я думала, может, тоже в путяге.
– Да нет… Как думаешь, сколько мне лет? – прищурилась Леля.
– Ну, как мне, шестнадцать, наверное, нет?
– Не-а. Мне все больше дают, чем есть, – улыбнулась Леля. – Постоянно. Недавно, прикинь, отцу принесли домой повестку из военкомата на какие-то военные сборы. Я дверь открываю, спрашиваю: «Кому повестка?» А они: «Вашему мужу, кому еще?»
– Не, ну по тебе можно сказать. Молодая жена, – ухмыльнулась Светка. – И че, ты взяла?
– Нет, ее надо было лично в руки, под роспись. И ребенку вообще нельзя повестку отдавать. Я же дочка.
– Папа твой, наверное, рад был, что пронесло, – прозорливо заметила Светка, потому что папа и правда был рад. – Так сколько тебе лет-то?
– Тринадцать вот только исполнилось. Я в шестом классе.
– Да ла-адно, не гони! – изумилась Светка.
– Я серьезно, вот у меня учебники с собой за шестой класс! – рассмеялась Леля. – Все, кто не знает, думают, что я минимум в девятом. Ну я и не спорю. Мне так проще, чем доказывать.
Вообще, Лелю немного смущало, что она на полголовы выше всех своих мелких еще ровесников, но выглядеть взрослой все же было здорово. В одиннадцать лет у нее раньше, чем у всех девчонок в классе, пришли первые месячные. Любимые, чудом доставшиеся Леле джинсы стали коротки и широки, зато от упитанного крепыша, каким она была еще недавно, в зеркале не осталось и следа. Учительница домоводства, где девочек учили снимать мерки и делать выкройку, сказала, что у Лели эталонная разница между талией и бедрами – прямо так и сказала. А мама повела Лелю в магазин покупать первый, очень красивый кружевной лифчик, который жутко кололся, и носить его оказалось неудобно.
Леля сама с удивлением наблюдала все эти перемены. И если в первом классе она упросила маму отвести ее в парикмахерскую и сделать короткую стрижку, чтобы прекратить мучения с расчесыванием и заплетанием кос, то теперь она отрастила свои густые, тяжелые волосы ниже лопаток и носила их распущенными или собирала в высокий хвост на макушке.
– А сюда тебя с чем положили? – поинтересовалась Светка.
– Двусторонний гайморит, – пожала плечами Леля. – А тебя?
– Не помню, как называется, с глазом, короче. Ты б меня видела в первый день! Знаешь, какую у меня шишку вот здесь разбарабанило? С куриное яйцо! – Светка показала на свой пластырь. – И быстро так надуло, я вообще не поняла, че к чему! Думала, ячмень. Грела сначала. Потом совсем плохо мне стало, девчонки скорую вызвали. Операцию в итоге пришлось делать. Но мне ничего не резали, проткнули слезную пору, прочистили там все. Говорят, еще немного полежу и выпишут.
– Больно было? – «Протыкание» слезной поры Леле сразу не понравилось.
– Ну, не столько больно, как противно и жутко очень, когда возле глаза возятся.
Леля слушала Светку, с опаской выкладывая в «тараканью» тумбочку свои вещи: учебники, книжки, вязание, зубную щетку, гигиеническую помаду с клубничным запахом и «Ленинградскую» тушь. Это секретное оружие, загибавшее ее длинные, но совершенно прямые ресницы вверх, она открыла для себя летом в пионерском лагере. И теперь, когда никого не было дома, ей нравилось накрасить ресницы и, сдвинув створки трюмо, разглядывать себя в профиль. Получалось похоже на актрису из французского фильма «Шербурские зонтики». Правда, актриса была блондинкой. Зато Леля умела играть музыку из этого фильма на пианино.
– А тебе что-нибудь такое делать будут? – спросила Светка.
– Да, пункцию гайморовых пазух.
– О, такое дяденьке делали из соседней палаты. Я слышала, его на пункцию забирала медсестра. Можем спросить у него, как там, больно было, нет.
– А ты знаешь его?
– Да ходит такой, в синей пижаме.
– Да нет, я не про то. Ты знакома с ним?
– А че к чему знакомиться? Просто спросим – и все. Пошли!
Светка подскочила, обогнула свою кровать и общий стол и направилась к двери, остановилась, махнула рукой Леле: «Пошли!»
В широком коридоре было очень светло и зябко. От огромных – таких же, как в палате, – окон тянуло холодом. Наискосок от двери палаты располагался пост медсестры – обычный письменный стол с настольной лампой и стопкой историй болезни. В паре метров от поста стоял старенький диван-книжка. Он выглядел совсем не по-больничному: уютный, домашний, с мягкими потертыми подлокотниками. На полу и подоконниках больничного коридора стояли горшки с цветами и кадки с фикусами и еще какими-то комнатными растениями, названий которых Леля не знала. Непонятно было, как цветы не замерзают на этих ледяных подоконниках.
– Пойдем, я тебе лимон покажу, – позвала Светка, – смотри, вот это дерево, мне Лена-медсестра сказала, из косточки вырастили. Прикинь? И оно теперь плодоносит, на нем лимончики бывают! Ну, сейчас только нету, не сезон, наверное.
Они подошли к дверям чужой палаты, Светка приоткрыла одну створку, просунулась внутрь и обвела взглядом мужскую компанию больных: «Здрасьте всем!» Леля не стала заглядывать в мужскую палату, просто стояла рядом.
– А где у вас такой был ваш коллега, которому пункцию делали? Что-то не вижу его… В синей пижаме еще ходил.
– Николай, что ли? – отозвался мужской голос.
– Наверно, не знаю, как зовут.
– А его выписали сегодня.
– Да? Блин. Жалко! Ну, извините!
– А чего хотела-то? – поинтересовался голос.
Леля увидела, что к дверям мужской палаты приближается по коридору парень в красном спортивном костюме Adidas.
«Ни фига себе!» – подумала Леля. Она сразу узнала фирму по лампасам в три полоски и трилистничку на груди. У нее тоже могли быть шиповки Adidas, если бы она пошла в спортивный класс, там их всем выдали для тренировок, но мама была категорически против.
Среднего роста, крепко сбитый, с широкими покатыми плечами, парень двигался мягкой, пружинистой походкой, слегка покачиваясь при каждом шаге из стороны в сторону, словно пританцовывая. Выражение лица его при этом было довольно хмурым, а к распухшей переносице двумя полосками пластыря была приклеена толстая марлевая салфетка.
– Да про пункцию узнать! Ладно, ничего уже, – крикнула Светка и, высунув голову из палаты, стала закрывать дверь.
Парень подошел вплотную:
– Вы чего здесь?
Светка разом обернулась и разулыбалась:
– Привет, Зорик. Курить ходил?
– Ага, – ухмыльнулся парень, – а вы чего, к нам в гости?
– Да нет! У вас тут лежал один, хотела узнать про его процедуру, больно, нет. А то вот ей должны такую делать, пункцию. – И она кивнула в сторону Лели.
Парень глянул на Лелю. Его короткая челка, по-модному расчесанная на прямой пробор, с одной стороны лежала как надо, а с другой лихо топорщилась вверх. Под левым глазом виднелся бледный желто-фиолетовый синяк.
– Подруга твоя стоит уже синяя вся, – усмехнулся Зорик, обращаясь к Леле. – Окоченела тут?
Леля кивнула.
– Она даже вещи теплые с собой не взяла, – махнула на нее рукой Светка.
– Я же не знала, что в больнице будет такой дубак! Даже хуже, чем в школе у нас… – сказала Леля и прикусила язык – сейчас начнется: в каком ты классе и вся вот эта ерунда.
Но ничего не началось. Парень сказал только: «Здесь постойте» и зашел в палату.
– Бравенький, да? – подмигнула Светка.
– Ага, только что-то нос у него расквашенный.
– Так он спортсмен, вольной борьбой занимается.
Леля не успела ответить, как дверь открылась. Парень вышел в коридор и протянул ей трикотажный мужской свитер с полосками на груди:
– На, возьми пока.
Леля испуганно вытаращилась на него:
– Серьезно, что ли? Это ваш?
– Ну а чей? Возьми, он не колючий. А то окоченеешь совсем.
– Спасибо. Я отдам, когда мне вещи принесут. Завтра. – Леля взяла свитер и стала аккуратно складывать его, как будто собиралась положить в шкаф на полку.
– Отдашь, не вопрос, – пожал плечом парень.
– Зорик, курить пойдешь? – Светка склонила набок голову. – Пошли-и-и!
– Вредно курить. И обед уже скоро, – усмехнулся Зорик, закрывая за собой дверь.
По пути в свою палату Леля спросила:


