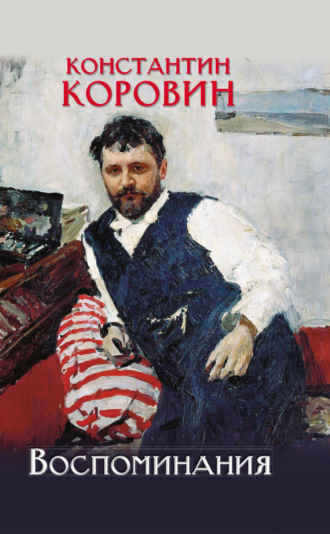
Константин Коровин
Воспоминания
Поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества. Первые занятия
В августе я вернулся в Москву. Сущево. Бедная квартира отца. Отец болен, лежит. Мать все время удручена его болезнью. Отец худой, в красивых глазах его – болезнь.
Жалко мне отца. Он лежит и читает. Кругом него книги. Он был рад меня видеть. Я смотрю – на книге написано: Достоевский. Взял себе одну книгу и читаю. Замечательно…
Пришел брат Сережа. Он жил отдельно с художником Светославским в большом каком-то сарае. Называется – мастерская. Там было хорошо. Светославский писал большую картину – Днепр, а брат мой делал иллюстрации, на которых изображалась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрывающиеся снаряды, ядра – война. Шла война с турками.
– Послезавтра экзамен, – сказал мне брат. – Ты боишься?
– Нет, – говорю, – ничего.
– Твои этюды видел Алексей Кондратьевич Саврасов и очень тебя похвалил. А Левитан сказал, что ты особенный и ни на кого не похож из нас. Но боится – поступишь ли ты. Ты ведь никогда не рисовал с гипса, а это экзамен.
Я подумал: «С гипса – что это значит? Гипсовые головы… как это скучно». И сразу улетел мыслью туда, где озеро, Дубинин, костер ночью, охота. Ну, Польтрона-то я взял с собой. Польтрон и спит со мной. Но я и Польтрон терпеть не можем города, и, думал я, зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные… Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки. Там надо жить. Как глупо. Дивные реки России – какая красота! Какие дали, какие вечера, утро какое. Заря всегда сменяется, всё для людей. Там надо жить. Сколько простора. А они – вот тут… где помойные ямы на дворах, все какие-то злые, озабоченные, все ищут денег да цепей, сказал я, вспомнив «Цыган» Пушкина. А я так любил Пушкина, что плакал, читая его. Вот это был человек. Он же всё сказал, и сказал правду. Нет, провалюсь я на экзамене, уйду жить с Дубининым. Отца жалко… и мать.
И шел я дорогой вечером к себе, в Сущево, и слезы капали из глаз… как-то сами собой.
Печально было дома, бедно. А отец всё читал. Я смотрел в окно своей маленькой комнатки, и Польтрон лежал около меня. Я погладил его, и он сел со мной рядом, посмотрел в окно. Сбоку видна площадь – Яузская часть, желтый дом, ворота, скучные и грязные окна. На скамейке пожарные в блестящих касках римского фасона, курят махорку, сплевывают.
Когда я лег в постель, то услышал – вдали запел голос:
В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном.[10]
Какой-то далекой грустью и таинственным чувством какого-то дома с высокой лестницей полнилась моя душа. И песня арестанта, который пел в остроге, была полна печали.
* * *
Утром я пошел на Мясницкую в Училище живописи, ваяния и зодчества. Было много учеников. Мимо меня проходили в классы, несли свернутую бумагу, озабоченные, напуганные. Почему-то все с длинными волосами. И я заметил, как они все угрюмы, и подумал: «Они, должно быть, не охотники». Лица бледные. Мне казалось, будто их где-то сначала мочили, в каком-то рассоле, а потом сушили. Почему-то мне не очень нравились они. Выражение у многих, да почти у всех, было похоже на Петра Афанасьевича. «Наверное, все они умеют влиять, – подумал я. – Какая гадость. Зачем влиять. В чем тут дело – влиять?»
На другой день я прочел, что назначается экзамен для вступающих: Закон Божий. И только я прочел, как увидел, что в приемную вошел священник в роскошной шелковой рясе, с большим наперсным крестом на золотой цепочке. У него было большое лицо, умное и сердитое, и на носу росла картошина. Грузно прошел он в канцелярию мимо меня. Думаю – вот завтра-то… И я побежал домой и засел за катехизис.
Утром, в половине одиннадцатого, солдат при классах, выходя в дверь из комнаты, где шел экзамен, крикнул: «Коровин!»
У меня екнуло сердце. Я вошел в большую комнату. За столом, покрытым синим сукном, сидел священник, рядом с ним инспектор Трутовский и еще кто-то, должно быть преподаватель. Он подал веером мне большие билеты. Взяв и перевернув билет, я прочел: «Патриарх Никон» – и подумал про себя: «Ну, это я знаю». Так как я читал «Историю Карамзина».
И начал отвечать, что вот Никон был очень образованный человек, он знал и западную литературу, и религиозные стремления Европы, и старался ввести многие изменения в рутину веры.
Батюшка смотрел на меня пристально.
– Вероятнее всего, Никон думал об объединении христианской религии, – продолжал я.
– Да ты постой, – сказал мне священник, посмотрев сердито, – да ты что ересь-то несешь, а? Это где ты набрался так, а? Выучи сначала программу нашу, – говорил он сердито, – а тогда приходи.
– Постойте, – сказал Трутовский, – это он, конечно, прочел.
– Ты что прочел?
Я говорю:
– Да, я много прочел, я Карамзина прочел… я Соловьева прочел.
– Спросите его другое, – сказал Трутовский.
– Ну, говори, третий Вселенский собор.
Я рассказал, робея, про Вселенский собор.
Священник задумался и что-то писал в тетрадку, и я видел, как он перечеркивал ноль и поставил мне тройку.
– Ступай, – сказал он.
Когда я проходил в дверь, солдат закричал: «Пустышкин!» – и мимо, с бледным лицом, толкнув меня, прошел в дверь другой ученик.
Экзамены прошли хорошо. По другим предметам я получил хорошие отметки, особенно по истории искусств. Рисунки с гипсовой головы выходили плохо, и, вероятно, мне помогли выставленные мной летние работы пейзажей. Я был принят в Училище.
Школа была прекрасная. В столовой за стойкой – Афанасий, у него огромная чаша-котел. Там теплая колбаса – прекрасная, котлеты. Он разрезал ловко ножом пеклеванный хлеб и в него вкладывал горячую колбасу. Это называлось «до пятачка». Стакан чаю с сахаром, калачи. Богатые ели на гривенник, а я на пятачок. С утра живопись с натуры – либо старика или старухи, потом научные предметы до трех с половиной, а с пяти – вечерние классы с гипсовых голов. Класс амфитеатром, парты идут выше и выше, а на больших папках большой лист бумаги, на котором надо рисовать тушевальным карандашом – черный такой.
С одной стороны у меня сбоку сидел Курчевский, а слева – архитектор Мазырин, которого зовут Анчутка. Почему Анчутка – очень на девицу похож. Если надеть на него платочек бабий, ну готово – просто девица. Анчутка рисует чисто и голову держит набок. Очень старается. А Курчевский часто выходит из класса.
– Пойдем курить, – говорит.
Я говорю:
– Я не курю.
– У тебя есть два рубля? – спрашивает.
Я говорю:
– Нету, а что?
– Достать можешь?
Говорю:
– Могу, только у матери.
– Пойдем на Соболевку… Танцевать лимпопо, там Женька есть, увидишь – умрешь.
– Это кто же такое? – спрашиваю я.
– Как кто? Девка.
Мне представились сейчас же деревенские девки. «В чем дело?» – думал я.
Вдруг идет преподаватель Павел Семенович – лысый, высокого роста, с длиннейшей, черной с проседью бородой. Говорили, что этот профессор долго жил на Афоне монахом[11]. Подошел к Курчевскому. Взял его папку, сел на его место, посмотрел рисунок и сказал тихо, шепотом, вздохнув:
– Эх-ма. Всё курить бегаете.
Отодвинул папку и перешел ко мне. Я подвинулся на парте рядом. Он посмотрел рисунок и посмотрел на меня.
– Толково, – сказал, – а вот не разговаривали бы – лучше бы было. Искусство не терпит суеты, разговоров, это ведь высокое дело. Эх-ма… о чем говорили-то?
– Да так, – я говорю, – Павел Семеныч.
– Да что так-то.
– Да вот хотели поехать… он звал лимпопо танцевать.
– Чего?.. – спросил меня Павел Семеныч.
Я говорю:
– Лимпопо.
– Не слыхал я таких танцев что-то. Эх-ма.
Он пересел к Анчутке и вздохнул.
– Горе, горе, – сказал он, – чего это вы. Посмотрели бы на формы-то немножко. Вы кто – живописец или архитектор?
– Архитектор, – ответил Анчутка.
– То-то и видно… – сказал, вздохнув, Павел Семенович и подвинулся к следующему.
Когда я пришел домой, то за чаем, где был брат Сережа, сказал матери:
– Мама, дай мне два рубля, пожалуйста, очень нужно. Меня Курчевский звал, который рисует рядом со мной – он такой веселый, – поехать с ним на Соболевку, там такая Женька есть, что когда увидишь, умрешь прямо.
Мать посмотрела на меня с удивлением, а Сережа даже встал из-за стола и сказал:
– Да ты что?!
Я увидел такой испуг и думаю: «В чем дело?»
Сережа и мать пошли к отцу. Отец позвал меня, и прекрасное лицо отца смеялось.
– Это куда ты, Костя, собираешься? – спросил он.
– Да вот, – говорю, не понимая, в чем дело, отчего все испугались. – Курчевский звал на Соболевку к девкам, там Женька… Говорит – весело, лимпопо танцевать…
Отец засмеялся и сказал:
– Поезжай. Но ты знаешь, вот что лучше – подожди, я поправлюсь… – говорил он смеясь, – я с тобой поеду вместе. Будем танцевать лимпопо.
Профессор Сорокин
Преподаватели московского Училища живописи и ваяния были известные художники: Перов, братья Сорокины, Прянишников, Маковский, Саврасов и Поленов.
Картины Василия Григорьевича Перова всем известны, и лучшие из них были в галерее Третьякова: «Охотники на привале», «Птицелов», «Сельский крестный ход на Пасхе» и «Суд Пугачева». У Прянишникова там же – «Конец охоты», «Пленные французы». У Маковского – «Вечеринка», «В избушке лесника», «Крах банка», «Друзья-приятели» и «Посещение бедных», у Евграфа Семеновича Сорокина не помню, были ли картины в Третьяковской галерее. У Саврасова была картина «Грачи прилетели». У Поленова – «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Старая мельница», «Больная», «На Тивериадском (Генисаретском) озере» и «Цезарская забава». Но Поленов вступил в Училище как преподаватель пейзажного класса. Он был выбран Советом преподавателей как пейзажист и потому не преподавал в натурном классе, где ученики писали тело с натурщиков. За Поленовым, значит, не считалось, что он был чистый жанрист.
В натурном классе были профессора Перов, Маковский и Евграф Семенович Сорокин.
Сорокин был замечательный рисовальщик, блестяще окончил Академию художеств в Петербурге, получил золотую медаль за большую программную картину и был отправлен за границу, в Италию, где пробыл долгое время. Рисовал он восхитительно. Это единственный рисовальщик-классик, оставшийся в традициях Академии, Брюллова, Бруни, Егорова и других рисовальщиков. Он говорил нам:
– Вы всё срисовываете, а не рисуете. А Микеланджело рисовал.
Евграф Семенович писал большие работы для храма. Они многочисленны, и все его работы сделаны от себя. Он умел рисовать человека наизусть. Только платье и костюм он списывал с манекена. Краски его были однообразны и условны. Святые его были благопристойны, хороши по форме, но как-то одинаковы. Живопись была покойной, однообразной. Нам нравились его рисунки углем, но живопись ничего нам не говорила.
Однажды Евграф Семенович, когда я был его учеником в натурном классе и писал голого натурщика, позвал меня к себе на дачу, в Сокольниках. Была весна – он сказал мне:
– Ты пейзажист. Приезжай ко мне. Я пишу пейзаж уж третье лето. Приезжай посмотри.
В сад дачи он вынес большой холст, на котором была изображена его дача желтого цвета, а сзади сосны, Сокольники. Тень ложилась от дачи на землю двора. Был солнечный день. Меня поразило, что отражение в окнах, на стеклах нарисовано удивительно верно, и вся дача приведена в перспективу. Это был какой-то архитектурный чертеж, гладко раскрашенный жидко-масляными красками, по цветам неверный и непохожий на натуру. Всё соразмерно. Но натура – совсем другая. Сосны были нарисованы сухо, темно, не было никаких отношений и контрастов.
Я смотрел и сказал просто:
– Не так. Сухо, мертво.
Он внимательно выслушал и ответил мне:
– Правду говоришь. Не вижу я, что ль. Третье лето пишу. В чем дело, не понимаю. Не выходит. Никогда пейзажа не писал. И вот, не выходит. Ты попробуй, поправь.
Я смутился. Но согласился.
– Не испортить бы, – сказал я ему.
– Ну, ничего, не бойся, вот краски.
Я поискал в ящике краски. Вижу – «терр де сьенн», охры, «кость» и синяя прусская, а где же кадмиум?[12]
– Что? – спросил он.
– Кадмиум, краплак, индийская, кобальт.
– Этих красок у меня нет, – говорит Сорокин. – Вот синяя берлинская лазурь – я этим пишу.
– Нет, – говорю я, – это не годится. Тут краски говорят в природе. Охрой этого не сделать.
Сорокин послал за красками, а мы пошли покуда в дом завтракать.
– Вот ты какой, – говорил Евграф Семенович, улыбаясь. – «Краски не те», – и его глаза так добро смотрели на меня. – Вот что ты, – продолжал Сорокин, – совсем другой. Тебя все бранят. Но тело ты пишешь хорошо. А пейзажист. Удивляюсь я. Бранят тебя, говорят, что пишешь ты по-другому. Вроде как нарочно. А я думаю – нет, не нарочно. А так уж в тебе это есть что-то.
– Что же есть? – говорю я. – Просто повернее хочу отношения взять – контрасты, пятна.
– Пятна, пятна… – сказал Сорокин. – Какие пятна?
– Да ведь там, в натуре, разно – а все одинаково. Вы видите бревна, стекла в окне, деревья. А для меня это краски только. Мне все равно чту – пятна.
– Ну постой. Как же это? Я вижу бревна, дача-то моя из бревен.
– Нет, – отвечаю я.
– Как нет, да что ты! – удивлялся Сорокин.
– Когда верно взять краску, тон в контрасте, то выйдут бревна.
– Ну уж это нет. Надо сначала все нарисовать, а потом раскрасить.
– Нет, ничего не выйдет, – ответил я.
– Ну вот тебя за это и бранят. Рисунок – первое в искусстве.
– Рисунка нет, – говорю я.
– Ну вот, что ты! Взбесился, что ли? Что ты!
– Нет его. Есть только цвет в форме.
Сорокин смотрел на меня, потом сказал:
– Странно. Тогда что ж, а как же ты сделаешь картину не с натуры, не видя рисунка?
– Я говорю только про натуру. Вы ведь пишете с натуры дачу.
– Да, с натуры. И вижу – у меня не выходит. Ведь это пейзаж. Я думал – просто. А вот, поди. Что делать – не пойму. Отчего это. Фигуру человека, быка нарисую. А вот пейзаж, дачу – пустяки, а вот, поди, не выходит. Алексей Кондратьевич Саврасов был у меня, смотрел, сказал мне: «Эта желтая крашеная дача – мне смотреть противно, не только что писать». Вот чудак какой. Он любит весну, кусты сухие, дубы, дали, реки. Рисует тоже, но неверно. Удивлялся – зачем это я дачу пишу, – и Сорокин добродушно засмеялся.
После завтрака принесли краски. Сорокин смотрел на краски. Я клал на палитру много:
– Боюсь я, Евграф Семенович, попорчу.
– Ничего, порти, – сказал он.
Целым кадмиумом и киноварью я разложил пятна сосен, горящих на солнце, и синие тени от дома, водил широкой кистью.
– Постой, – сказал Сорокин. – Где же это синее? Разве синие тени?
– А как же, – ответил я. – Синие.
– Ну хорошо.
Воздух был тепло-голубой, светлый. Я писал густо небо, обводя рисунок сосен.
– Верно, – сказал Сорокин.
Бревна от земли шли в желтых, оранжевых рефлексах. Цвета горели невероятной силой, почти белые. Под крышей, в крыльце, были тени красноватые с ультрамарином. И зеленые травы на земле горели так, что не знал, чем их взять. Выходило совсем другое. Краски прежней картины выглядывали кое-где темно-коричневой грязью. И я радовался, торопясь писать, что пугаю моего дорогого, милого Евграфа Семеновича, моего профессора. И чувствовалось, что это выходит каким-то озорством.
– Молодец, – сказал, смеясь, Сорокин, закрывая глаза от смеха. – Ну только что же это такое? Где же бревна?
– Да не надо бревен, – говорю я. – Когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотрите на бревна, то там видно в общем.
– Верно, что-то есть, но что это?
– Вот это-то есть свет. Вот это и нужно. Это и есть весна.
– Как весна, да что ты! Вот что-то я не пойму.
Я стал проводить бревна, отделяя полутоном, и сделал штампы сосен.
– Вот теперь хорошо, – сказал Сорокин. – Молодец.
– Ну вот, – ответил, я. – Теперь хуже. Суше. Меньше горит солнце. Весны-то меньше.
– Чудно. Вот от того тебя и бранят. Всё ты как-то вроде нарочно. Назло.
– Как назло! Что вы говорите, Евграф Семенович?..
– Да нет, я-то понимаю, а говорят, все говорят про тебя…
– Пускай говорят, только вот довести, всё соединить трудно, – говорю я. – Трудно сделать эти весы в картине, что к чему. Краски к краске.
– Вот тут-то вся и штучка. Вот что. Надо сначала нарисовать верно, а потом вот как ты. Раскрасить.
– Нет, – не соглашался я. И долго, до поздней ночи, спорил я со своим милым профессором, Евграфом Семеновичем. И посоветовал я ему показать это Василию Дмитриевичу Поленову.
– Боюсь я его, – сказал Евграф Семенович. – Важный он какой-то.
– Что вы, – говорю я, – это самый простой и милый человек. Художник настоящий, поэт.
– Ну и не понравится ему моя дача, как Алексею Кондратьевичу. Чудаки ведь поэты.
– Нет, – говорю. – Он не смотрит на дачу. Он живопись любит, не сюжет. Конечно, дача не очень нравится, но не в том дело. Цвет и свет важно, вот что.
– А ты знаешь, я никогда об этом не думал. Пейзаж – это, я так полагал, дай попробую, думаю, – просто.
Когда уходил от Сорокина, то он простился со мной, смеясь, сказал:
– Ну и урок. Да задал ты мне урок! – И сунул мне в карман пальто конверт.
– Что это вы, Евграф Семенович?
– Ничего, возьми. Это я тебе… сгодится.
Я ехал домой на извозчике. Вынул и разорвал конверт. Там лежала бумажка в сто рублей. Какая была радость!
* * *
Вот что еще я помню. Когда он приходил в класс, то главное заключалось в том, что он поправлял рисунок и говорил: «Рисовать не умеете все вы, писать тоже. Дай сюда кисть». И когда брал палитру с положенной кистью, то, помешав ее с киноварью, проводил ею сверху, от головы до следков, изобразительной линией рисунка, делая мгновенно этюд ваш живым – с серьезной бодростью крепкой формы. И не было ошибки в размерах бегущей линии. По неумению нашему лепить цельное мы вновь бесконечно писали на этих замечательных поправках, и вновь приходил Евграф Семенович и говорил: «Ты глуп, ничего не понимаешь». Правда, это было сверх нашего понимания. Я думаю, эти поправленные Евграфом Семеновичем рисунки суть его лучшие произведения.
В красках он тоже всегда поправлял этюды с натурщика, так как женщины в то время не позировали. Он брал всегда «кость», охру, «терр де сьенн» и красный крап, и главное было – исправление света и тени при переходности их соразмерно форме, упуская при этом окраску: она не считалась важной. Забавно при этом, что фон писался отдельно. И, рисуя в вечерних классах, мы носили вечеровые рисунки домой делать фон. Это называлось «точить фон», то есть делать его ровно и гладко. Странно, что [хотя] мне казалось это не нужно, но я «точил фон».
Мои предшественники
Глубокий след оставили эти светлые и милые люди в душе моей. Почти все они умерли; я с восхищением, тихо и глубоко вспоминаю их, и трогательной любовью наполняется душа моя, и как живые они проходят в воображении передо мной, эти чистые, честные люди.
<…> Они были художники и думали, что и мы будем точно такими же их продолжателями и продолжим все то, что делали они. Они радовались и восхищались от всего своего чистого сердца, что мы вот написали похоже на них. Но они не думали, не знали, не поняли, что у нас-то своя любовь, свой глаз, и сердце искало правды в самом себе, своей красоты, своей радости.
<…> Тогда еще не было слова «декадент» – вот бы его нужно было! – но зато потом оно попало прямо в точку. Хорошо, если чего не понимаешь и если слово такое есть, которого тоже не понимаешь. Но меня все же удивляло это странное требование одинаковости – сюжетности. Я помню, что один товарищ по Школе, художник Яковлев, был очень задумчив, печален, вроде как болен меланхолией. Мы зашли его навестить. Он жил в маленьком номеришке, как и мы все. Бедный Яковлев сидел на диване в большой грусти. Мы допытывались, что с ним случилось. «Сюжеты все вышли», – отвечал он нам со вздохом отчаяния.
Ларион Михайлович Прянишников
Высокий, худой, со светлыми соколиными глазами, острый, прямой взор. Я помню его еще молодым человеком, когда он бывал у нас при жизни отца <…> Отец мой хорошо рисовал, и Ларион Михайлович уговорил отца отдать брата Сергея учиться живописи, и я поступил тоже научиться архитектуре, что и проделывал сначала года два. Ларион Михайлович отчасти как [родственник], хотя и дальний, меня недолюбливал, так как я все говорил «поперек», да и в живописи тоже все «поперек». Так, жалея, он не очень-то меня жаловал. А у меня вообще завелась в жизни черта: не жалуешь – ну и ничего, а любил я его всей душой и считал талантливейшим человеком.
Главная черта его была ясность ума, трезвость понимания. Все сентиментальное, все сладкое было ему невмоготу, противно. Если кто-нибудь скажет: «красочки», «этюдики», «уголек», конечно, он сейчас же поправит. Его эстетике мешало все расслабленное. Это был мужчина, это был честнейший человек, человек свободы и силы. Искание мое колорита он называл «антимония», «Осенний день» Левитана – «разноцветные штаны», мою картину (море и камни), написанную на Черном море, назвал «морским свинством». Словом, он признавал только мощь в идее – сюжете и понимал характер русской жизни и русского типа как редкий художник. Когда раз заговорили о мотиве в пейзаже, то он просто ушел, замечательно посмотрев своим на нас соколиным глазом.
Но однажды в головном классе я писал голову, и он сказал Перову что-то. Пришел Перов, а за ним пришел смотреть весь натурный класс, а я ничего не понял, и никто и ничего мне не объяснил.
Выходило так, что Ларион Михайлович до досады жалел меня, что делаю не то, что нужно, и все только живопись для живописи. И только когда я написал охотников и одного, который в галерее Третьякова, он мне немножко простил, да и то не очень.
Когда в школу после Трутовского назначили в директора Виппера, то многое изменилось. Новый директор стал приказывать и турять. Главную оппозицию держал Ларион Михайлович. Потом назначен был Философов – еще стало хуже, и свободная душа Лариона Михайловича сильно горевала, даже, я думаю, сократилась [тем самым] его жизнь.
Помню однажды спор. Евграф Семенович Сорокин считал, что анатомия нужна, Прянишников – что не нужна или только поверхностно. Сорокин говорил, что надо делать всю конструкцию, даже внутренних органов. «И кишки нужно?» – спросил Илларион Михайлович. «И кишки», – с досады ответил Евграф Семенович. «Ну, хорошо, я буду писать тебя в шубе. Нет, сначала я буду писать кишки, потом рубашку, жилет, сюртук, а потом уж шубу», – рассердился Ларион Михайлович и ушел. Конечно, тот и другой понимали значение анатомии, но поскольку Виппер назначил трехлетний курс как человек, который не знает, что нужно художнику, а что доктору, то Ларион Михайлович и протестовал в такой не лишенной остроумия и прямоты форме.
Василий Григорьевич Перов
Это было уже другое – это был колорист, [он] тоже поправлял этюд, но немного. Главное внимание тоже было обращено на рисунок и тушевку, на мягкость и тонкую законченность кистей рук и следков, что считалось большой важностью и необходимым, вообще законченность признавалась необходимой. При растушевке и съемке главной принадлежностью была мягкая резинка, которой и орудовали при искании светотени в форме.
При Перове одно из главных вниманий обращалось на эскизы на заданные темы, где сюжет, идейная сторона, так сказать, литературная, играли выдающуюся роль. В классах младших была нерушимая традиция почитания старшего натурного класса, в который, как в святую святых, вход младшим классам воспрещался строго-настрого. Ученики натурного класса давали свои советы ученикам фигурного и головного классов по их просьбам, держа с достоинством свое превосходство в рисовании <…>
В картинах с сюжетом, то есть в «жанре», приходилось трудно в случае, если нужен был в фоне пейзаж <…> Тут надо было обратиться к пейзажистам, которые не были на высоком счету и считались так себе, баловнями, потому что сучок на дереве можно было рисовать короче и длиннее, туда и сюда – не проверишь, это все просто. Пейзажист – значит, рисовать не умеет, оттого и бежит «на пейзаж».
Василий Дмитриевич Поленов
А Поленов так заинтересовал Школу и внес такую свежую струю в нее, как весной открывают окно душного помещения. Он первый стал говорить о «чистой» живописи, как написано, говорил о разнообразии красок, и по его поручению от Саввы Ивановича Мамонтова я получил возможность написать для Частной оперы декорации к «Аиде» Верди. Эскизы эти я сделал у Поленова прямо с его этюда, остальные – сам, пользуясь фотографиями. Забавно, что когда я шел в мастерскую писать декорацию, то думал: «Как-то я буду на лестнице писать на такой высоте?» – полагая, что писать так же придется, как картину на мольберте, но удивился остроумию: холст лежал прибитый и загрунтованный на полу.
Оказалось, что декорации писать до того интересно, что не хотелось бросать работу. Но декорации велики, и требуется большая физическая сила, чтобы их писать. Колонны и тени от них я старался так написать, что, казалось, лежащие на полу, они имеют живые провалы. Когда на колоннах я помещал фигуры фараонов, «фундуклеев», как их назвал маляр Василий Белов, выходило сухо и все время приходилось покрывать сверху светом. Это было трудно. Тон воздуха и солнца на них не выходил, и я страдал: видно, то, да не то. Потом я их сделал контрастами теряющихся пятен и не полным рисунком, а остро кое-где выступающими.
Эта декорация, а также ночь и огромная голова храма сделали то, что я все четырнадцать лет писал декорации Частной оперы.







