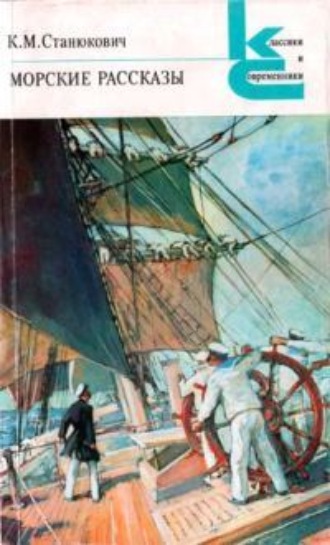
Константин Станюкович
Кириллыч
I
Несколько лет тому назад мне пришлось гостить у одних знакомых на хуторе в степной части Крыма.
На этом хуторе, в числе работников, жил старый отставной матрос прежнего Черноморского флота Кириллыч. Он пробыл на службе лет двадцать и, как скромно выражался, «кое-что и повидал на своем веку». Он и «принял» немало линьков и «бою» от начальства, и с «черкесом» воевал во время крейсерств у Абхазских берегов тогда еще непокоренного Кавказа, он и с «туркой дрался» в Синопском сражении, бывши сигнальщиком на том самом корабле, где имел свой флаг адмирал Нахимов, и затем, во время осады Севастополя, безотлучно пробыл шесть месяцев на знаменитом четвертом бастионе, пока ядро не раздробило ему левую ногу.
Несмотря на свои семьдесят с лишком лет, этот маленький старикашка с седой, коротко остриженной головой, с выбритыми морщинистыми и побуревшими от загара щеками и щетинкой колючих седых усов глядел молодцом. Почти все зубы у него были целы и зрение чудесное. Только глуховат был на одно ухо – от бомбардировки оглох, по его словам.
Он бодро и скоро ковылял на своей деревяшке и добросовестно исполнял обязанности караульщика большой бахчи, когда поспевали арбузы и дыни, и сторожа при хуторе зимой, когда уезжали господа.
Я любил навещать Кириллыча в его владениях, любил беседовать с ним и, главное, слушать его рассказы, полные интереса и того наивного юмора, которым отличается русский человек даже и тогда, когда рассказывает далеко не веселые вещи.
Как и большая часть стариков, он охотно вспоминал прошлое и, по-видимому, рад был моим визитам, тем более что я иногда баловал старика – приносил ему небольшую склянку водки, до которой Кириллыч был большой охотник.
Бывало, на зорьке, когда еще солнце не поднималось и воздух был полон острой, бодрящей свежести, или перед вечером, когда спадала томительная жара, я пробирался между гряд бахчи к караулке Кириллыча, сделанной из жердей, покрытых рогожками. Она стояла посредине бахчи, и оттуда Кириллыч озирал свои владения, карауля вместе с маленькой черной лохматой собачонкой Цыганкой вверенную его надзору бахчу. Птиц он отгонял трещоткой, а людей, которые покушались в неумеренном количестве воровать арбузы и дыни, огорашивал страшною руганью и, в случае чего, стращал ружьишком, заряженным дробью. Взять арбуз один-другой он никому не отказывал – ешь, мол, с богом! Но наполнять мешки чужим добром не позволял и таких воров преследовал немилосердно.
Обыкновенно лохматая Цыганка выбегала ко мне навстречу, заливаясь неистовым лаем, но, распознав знакомого человека, смолкала и, весело виляя хвостом, возвращалась к караулке и свертывалась у входа калачиком. По утрам я почти всегда заставал Кириллыча или за бритьем, или только что окончившим эту операцию. Брился он тем самым ножом, которым резал и хлеб, смотрясь в маленький осколок зеркальца, и хотя бритье таким способом едва ли было особенно приятно, тем не менее Кириллыч стоически переносил пытку и тщательно выскабливал свои щеки по привычке хорошо вымуштрованного матроса николаевского времени.
В караулке Кириллыча было чисто и опрятно и все прибрано к месту, словно бы в корабельной каюте. Земля была устлана рогожками. Широкий деревянный обрубок служил столом, а другой – поменьше – стулом. На полке, укрепленной бечевками, в порядке расставлена была посуда: котелок, медный чайник, деревянная чашка, ведерко и две кружки. Коврига черного хлеба, обернутая чистой тряпицей, и помадная банка с солью стояли тут же. В переднем углу висел крошечный образок, а у изголовья постели Кириллыча стояло одноствольное ружье, и кое-какие принадлежности костюма висели на гвоздиках. Постель Кириллыча состояла из бараньего тулупа шерстью вверх, на котором была подушка в ситцевой наволоке. Спал Кириллыч всегда на меху, чтобы не ужалила проклятая «таранта», как называл старик тарантулов, которые боятся бараньего запаха. Однако, на всякий случай, он держал скляночку с настоем спирта на этом самом насекомом. Татары научили его этому средству против укуса тарантула.
Днем, во время жары, Кириллыч ходил в одной рубахе и исподних, в татарских башмаках на босу ногу и в матросской старой шапке на голове, а когда наступала ночная свежесть, надевал куцее затасканное пальтишко и в таком виде сиживал перед караулкой, наслаждаясь вечерней прохладой и поглядывая на высокое бархатное небо, усеянное звездами. Рядом с ним дремала чуткая Цыганка, пробуждавшаяся при малейшем подозрительном шорохе.
Нередко в такие чудные вечера сиживали мы вместе с Кириллычем. Обыкновенно, как только я заходил к нему, он предлагал мне кавуна или дыньки, и я, по его примеру, ел чудный арбуз, закусывая его черным хлебом, круто посыпанным крупной солью.
Среди торжественной тишины вечера Кириллыч, бывало, рассказывал, понижая голос, о прежней службе с ее строгостями и муштрой, о начальниках, о черкесе, о турке, о французе и особенно любил вспоминать о том, как сам Павел Степаныч Нахимов (царство ему небесное!) повесил ему на бастионе «егория».
В рассказах Кириллыча покойный адмирал являлся легендарным героем, чуждым каких бы то ни было недостатков, и был единственным начальником, о котором старый матрос не обмолвился каким-нибудь критическим замечанием. И когда я спросил, порол ли Нахимов так же жестоко, как и другие черноморцы того времени, то Кириллыч даже с сердцем воскликнул:
– Ну так что же! И порол ежели, то правильно, за дело, вашескобродие!.. А другие так вовсе без рассудка, по бешености… Одно слово… никому не сравняться с покойным Нахимовым. Во всех статьях, можно сказать, начальник был!..
О себе и о своих подвигах – а о них я слышал от одного старого моряка-севастопольца, приезжавшего на хутор, – Кириллыч никогда не говорил, вероятно, и сам не подозревая, что броситься в пороховой погреб и вынуть из вертящейся бомбы горящую трубку – не совсем обыкновенное дело для человека, и когда я спросил его об этом обстоятельстве, то он просто, словно бы не придавая своему подвигу ни малейшего значения, ответил:
– Точно, было такое дело. Вижу, подлая, пробила пороховой погреб, я и за ей. Думаю: беда будет, как взорвет… Народу-то сколько пропадет!
– Да ведь вы могли первый погибнуть, Кириллыч?
– Пожалуй, что и так, – простодушно промолвил Кириллыч и, пыхнув острым дымком махорки из своей коротенькой трубочки, прибавил: – Однако господь вызволил. Только руки себе спалил.
– А вот как ноги решили, так вовсе страшно стало, вашескобродие! – проговорил после паузы Кириллыч.
– Отчего страшно?
– Главная причина оттого, вашескобродие, что думал я тогда: пропасть мне без ноги. Как прокормиться с одной ногой-то? Пенсион за ногу, сказывали, маленький, на его не пропитаешься, а подаянием кормиться тоже как быдто зазорно матросу с «егорием». И докладывал я в те поры дохтуру: «Нельзя ли, мол, вашескобродие, оставить как-нибудь при ноге?» Не согласился. «Никак, говорит, невозможно. Ежели, говорит, не отрезать – умрешь!» Ну, так и отрезали.
– И не пропали вы без ноги, Кириллыч?
– То-то не пропал, вашескобродие! – усмехнулся старик. – Сперва, после замирения, как вышла мне чистая, жил я в Севастополе яличником, перевозил, значит, через бухту народ, который вернулся в город. Ну, и которые приезжие были, чтобы на Севастополь полюбопытствовать… Те, бывало, и полтину за перевоз давали… А после вот по хуторам пошел, потому люблю я, вашескобродие, вольный воздух. Спасибо добрым людям, не брезговают старым анвалидом… Небось и деревянная нога службу справляет! – не без некоторой гордости говорил Кириллыч, хлопая по деревяшке и, по-видимому, вполне довольный, что после двадцатипятилетней службы, геройских подвигов и потери ноги он не «пропал вовсе», а вел полунищенское существование. – Вот только отрезанная нога иной раз оказывает, вашескобродие! – прибавил Кириллыч.
– А что, болит?
– Ненастьем, значит, ломоту дает… А то, нечего бога гневить, сух я из себя, а нутренность вся здоровая, даром что за седьмой десяток перевалило. Паек-то уж давно мне на том свете по положению идет, а господь, видно, не пущает. «Живи, говорит, старик, пока кости носят». Я вот и живу!







