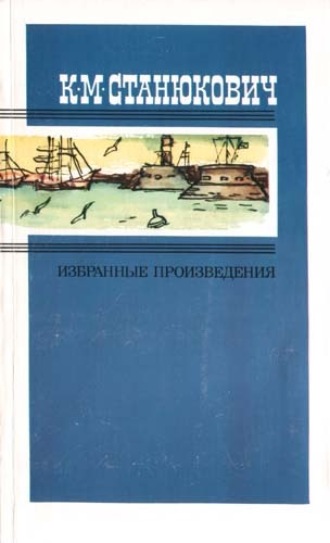
Константин Станюкович
Матросский линч
– Постой!.. Который раз я тебе говорю, чтоб ты докладывал мне, если матрос провинится, а не расправлялся бы сам? Слышишь?
– Слушаю, ваше благородие! – еще суровее промолвил боцман. – Но только как вам будет угодно, а за каждую малость не годится беспокоить ваше благородие… Тогда матросы вовсе не будут почитать боцмана! – решительно заявил Щукин обиженным тоном.
– Ты и не беспокой по пустякам, – проговорил, смягчаясь, Василий Иваныч, чувствовавший слабость к старому боцману, – но только не очень-то давай своим рукам волю… Ты любишь это… знаю я. Ну за что ты прибил Аксенова? Полюбуйся, какой у него фонарь… Срам! Ты ведь боцман, а не разбойник! – прибавил Василий Иваныч, снова принимая строгий начальнический тон.
Щукин опять упорно молчал.
– Нагрубил он тебе, что ли?
– Никак нет, ваше благородие!
– Неисправен был?
– Матрос он исправный, ваше благородие!
– Так за что ж ты его прибил, скотина? – воскликнул, вспыливши, Василий Иваныч.
– Матрос он еще глупый, ваше благородие!.. Не обучен как следовает…
– Ну?..
– Для острастки, значит, ваше благородие, чтобы понимал! – проговорил Щукин самым серьезным, убежденным тоном.
– Для острастки подшиб глаз?
– Насчет глаза, осмелюсь доложить, по нечаянности, ваше благородие! – прибавил боцман как бы в оправдание, снова принимая угрюмое выражение.
– Слушай, Щукин! Последний раз тебе говорю, чтобы ты людей у меня не портил! – строгим голосом начал Василий Иваныч, подавляя невольную улыбку. – Ведь стыдно будет, как тебя разжалуют из боцманов?..
Щукин сердито молчал.
– Как ты полагаешь?
– Не могу знать, ваше благородие.
– А дождешься ты того, что узнаешь, если не перестанешь разбойничать. Ступай! – резко оборвал старший офицер.
Боцман исчез из каюты. Когда он поднялся на палубу, никто и не подумал бы, что его только что «разнесли», – до того важен и суров был вид у Щукина. Только лицо его побагровело сильнее да глаза еще более выкатились.
– Видишь, боцман идет! Посторониться, что ли, не можешь… сволочь! – крикнул Щукин, намеренно задевая плечом Аксенова и поводя на него презрительным взором.
Молодой матрос отскочил в сторону.
– Жаловаться, подлец! – прошептал, проходя далее, Щукин, сжимая кулак и ощущая сильное желание задушить Аксенова в отместку за поступок, недостойный, по мнению боцмана, порядочного матроса.
– Так выучат люди, Ефимка? – подсмеялся Леонтьев.
В эту минуту и сам Аксенов усомнился, чтобы нашлись люди, которые могли бы проучить грозного боцмана.
– Зачем это вас, Матвей Нилыч, старший офицер требовал? – полюбопытствовал баталер, когда боцман пришел на бак.
– Насчет работ, значит, говорили… – усиленно небрежным тоном отвечал боцман.
– Верно, что к вечеру в Гонконт придем?
– Должно, к вечеру…
– А долго простоим, Матвей Нилыч?
– Еще неизвестно… Об этом у нас разговору не было! – с важностью молвил Щукин и прибавил: – Однако сейчас и обедать… водку несите!
Колокол пробил шесть склянок (одиннадцать часов), и с мостика раздалась команда: «Пробу подать!»
Через минуту кок в белом колпаке и чистом переднике вынес маленький поднос с двумя деревянными чашками, ложкой и сухарем. Приняв поднос, Щукин, сопровождаемый коком, торжественно понес пробу. Кок остановился на шканцах, а боцман, поднявшись на мостик, где в это время, кроме вахтенного офицера, находились капитан и старший офицер, подал пробу вахтенному офицеру, официально приложив растопыренные пять пальцев к виску. С тою же официальностью вахтенный передал пробу старшему офицеру, который в свою очередь подал ее, прикладываясь свободной рукой к козырьку фуражки, капитану.
Взяв поднос, капитан отведал щей и пшенной каши, съел кусок сухаря и, похвалив щи, передал пробу старшему офицеру. Василий Иванович тоже отведал и, передавая пробу вахтенному офицеру, сказал, что можно раздавать вино и обедать. Возвращая почти пустые чашки боцману, вахтенный приказал свистать к водке.
Два матроса с баталером сзади уже несли ендову с ромом, от которого распространялся на палубе острый, пахучий аромат, щекотавший обоняние. По обыкновению, шествие сопровождалось веселыми замечаниями и остротами. На шканцах шествие остановилось, и ендову бережно опустили на подостланный брезент. После того два боцмана и все восемь унтер-офицеров стали на шканцах в кружок, приставив дудки к губам, и, по знаку старшего боцмана Щукина, вдруг раздался долгий и пронзительный свист десяти дудок.
– Ишь, соловьи заливаются! – весело замечают матросы, окрестившие этот долгий веселый свист дудок, призывающий к водке, «пеньем соловьев».
«Соловьи» смолкли. Толпа собралась вокруг ендовы, и начался торжественный акт раздачи водки.
Баталер со списком в руке, отмечая крестиками пьющих и ставя палочки непьющим [2], выкрикивал громко фамилии, начиная по старшинству: сперва выкликались боцмана, затем унтер-офицеры, потом матросы первой статьи и т.д. В ответ раздавались на разные голоса короткие отрывистые: «яу!» или «яо!», и, выделившись из толпы, матрос подходил к ендове, принимая вдруг тот сосредоточенно-строгий вид, который бывает у людей, подходящих к причастию. Сняв шапку, а иногда и крестясь, он зачерпал мерной оловянной чаркой, по объему равняющейся порядочному стакану, ароматного «горлодера» и, стараясь не пролить ни одной капли, благоговейно подносил чарку к губам, выпивал, крякнув, передавал чарку следующему и поспешно отходил, закусывая припасенным сухарем. Если неосторожный проливал вино, из толпы раздавались насмешливые замечания:
– Винцо, брат, не пшеничка: прольешь – не подклюнешь!
Водка роздана. На палубе стелются брезенты. Артельщики разносят баки с дымящимися щами и большие куски горячей солонины в сетках. Небольшими артелями, человек по десяти, матросы рассаживаются вокруг бака, поджав под себя ноги. Перед тем как садиться, каждый крестится. Артельщик, выбранный каждою артелью, начинает резать солонину на мелкие куски, и все дожидаются, не дотрогиваясь до щей. Затем крошево валится в бак, в щи подливается уксус, и матросы принимаются за ложки.
У одного из баков, вблизи грот-мачты, между другими сидели Федосеич, Аксенов и Леонтьев. Старый матрос хлебал щи в молчании, с тою серьезностью, с какой обыкновенно едят простолюдины. Он ел истово, аккуратно, не спеша, заедая щи размоченным в воде ржаным сухарем, и бережно сбирал падавшие сухарные крошки. Аксенов весь отдался еде. Глаза его плотоядно блестели, и румяное здоровое лицо покрывалось крупными каплями пота. Он уписывал жирные щи за обе щеки, издавая по временам одобрительные восклицания. После скудного берегового пайка он вволю отъедался на обильном морском довольствии и находил, что «при таком харче умирать не надо».
Леонтьев снисходительно подсмеивался над восторгами «деревни». Щеголяя своим «хорошим тоном», перенятым у кронштадтских писарей, он старался «кушать по-господски»: с некоторой небрежностью и будто нехотя, словно желая подчеркнуть, что он привык не к такой пище и восторгаться какими-нибудь щами считает неприличным. Во время еды он болтал, видимо раздражая своей болтовней старого матроса. Федосеич, недолюбливавший хлыщеватого Леонтьева, хмурился, бросая по временам на него сердитые взгляды, и, когда тот завел было скоромную речь насчет китаянок, Федосеич не выдержал.
– Нашел время язык чесать! – строго заметил он.
– За обедом завсегда можно разговаривать. Это даже вполне благородно…
– За хлебом, за солью пустяков не ври!.. Или вас, кантонищину, этому не учили?..
– Ишь, строгий какой! – тихо огрызнулся Леонтьев и, несколько сконфуженный, замолчал.
Примолкли и остальные. Несколько минут только слышно было дружное сюсюканье людей, хлебавших щи.
– Нести, что ли, еще, ребята? – спросил артельщик, когда бак был выпростан и на дне осталась одна солонина.
Никто больше не хотел. Даже Аксенов не выразил желания. Тогда стали есть крошево, стараясь не обгонять друг друга, чтобы всем досталось мяса поровну.
Когда мясо было выпростано, артельщик пошел за кашей и за маслом.
– И скусная же была солонина! – прибавил, облизываясь, Аксенов.
– Эка, нашел скусного!.. Надоела уж эта солонина! – заметил Леонтьев, щуря глаза. – Завтра, по крайности, хоть свежинка будет.
– Разборчивый ты какой господин у нас. Видно, сладко в кантонистах едал? – насмешливо промолвил Федосеич.
– Небось едал! – хвастливо проговорил Леонтьев.
– Скажи пожалуйста! – иронически вставил Федосеич.
– Я, может быть, самые отличные кушанья едал.
– В казарме, что ли?
– Зачем в казарме? Мы, слава богу, не в одной казарме свету видели! Была у меня, братцы, в Кронштадте одна знакомая, заместо повара у адмирала Лоботрясова жила… Может, слыхали про адмирала Лоботрясова? Так придешь, бывало, в воскресенье к кухарчонке – она всего тебе предоставит: и соусу из телячьих мозгов, и жаркова – тетерьки с брусникой, и крем-брулея! Очень нежное это кушанье, братцы, крем-брулей! – продолжал Леонтьев, обводя всех торжествующим взором и, видимо, довольный, что слово произвело некоторый эффект.
– Тарелки, значит, вылизывал? – презрительно вставил Федосеич.
Среди матросов раздался смех.
– Это пусть вылизывает, кто настоящего обращения не знает, а мы, братец, и с тарелок умеем! – задорно возразил Леонтьев.
– Врать-то ты поперек себя толще! – проворчал, отворачиваясь, старый матрос.







