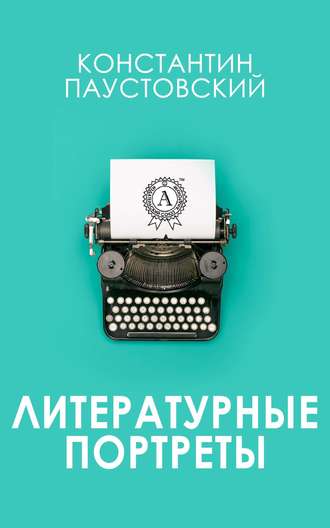
Константин Паустовский
Литературные портреты
То были шумные и веселые сборища, но никто из нас не мог бы допустить и мысли, что они возможны без бабушки, – она вносила в них ласковость, теплоту и порой рассказывала удивительные истории из своей жизни, прошедшей в степях Казахстана, на Амуре и во Владивостоке.
Гайдар всегда приходил с новыми шутливыми стихами. Однажды он написал длинную поэму обо всех юношеских писателях и редакторах Детского издательства. Поэма эта затерялась, забылась, но я помню веселые строки, посвященные Фраерману:
В небесах над всей вселенной,
Вечной жалостью томим
Зрит небритый, вдохновенный,
Всепрощающий Рувим…
Это была дружная семья – Гайдар, Роскин, Фраерман, Лоскутов. Их связывала и литература, и жизнь, и подлинная дружба, и общее веселье.
Это было содружество людей, преданных без страха и упрека своему писательскому делу. В общении выковывалась общность взглядов, шло непрерывное формирование характеров, как будто сложившихся, но всегда юных. И в годы испытаний, в годы войны все, кто входил в эту писательскую семью своим мужеством, а иные и героической смертью доказали силу своего духа.
Вторая полоса жизни Фраермана после Дальнего Востока была накрепко связана со Средней Россией.
Фраерман – человек, склонный к скитальчеству, исходивший пешком и изъездивший почти всю Россию. нашел, наконец, свою настоящую родину Мещерский край, лесной прекрасный край к северу от Рязани.
Этот край является, пожалуй, наилучшим выражением русской природы с ее перелесками, лесными дорогами, поемными приобскими лугами, озерами, с ее широкими закатами, дымом костров, речными зарослями и печальным блеском звезд над спящими деревушками, с ее простодушными и талантливыми людьми-лесниками, паромщиками, колхозниками, мальчишками, плотниками, бакенщиками. Глубокая и незаметная на первый взгляд прелесть этой песчаной лесной стороны совершенно покорила Фраермана.
С 1932 года каждое лето, осень, а иногда и часть зимы Фраерман проводит в Мещерском крае, в селе Солотче, в бревенчатом и живописном доме, построенном в конце девятнадцатого века гравером и художником Пожалостиным.
Постепенно Сологча стала второй родиной и для друзей Фраермана. Все мы, где бы мы ни находились, куда бы нас ни забрасывала судьба, мечтали о Солотче, и не было года, когда бы туда, особенно по осени, не приезжали на рыбную ловлю, на охоту или работать над книгами и Гайдар, и Роскин, и я, и Георгий Шторм, и Василий Гроссман, и многие другие.
Старый дом и все окрестности Солотчи полны для рас особого обаяния. Здесь были написаны многие книги, здесь постоянно случались всяческие веселые истории, здесь в необыкновенной живописности и уюте сельского быта все мы жили простой и увлекательной жизнью. Нигде мы так тесно не соприкасались с самой гущей народной жизни и не были так непосредственно связаны с природой, как там.
Ночевки в палатке вплоть до ноября на глухих озерах, походы на заповедные реки, цветущие безбрежные луга, крики птиц, волчий вой, – все – это погружало нас в мир народной поэзии, почти в сказку и вместе с тем в мир прекрасной реальности.
Мы с Фраерманом исходили многие сотни километров по Мещерскому краю, но ни он, ни я не можем считать, положа руку на сердце, что мы его знаем. Каждый год он открывал перед нами все новые красоты и становился все интереснее-вместе с движением нашего времени.
Невозможно припомнить и сосчитать, сколько ночей мы провели с Фраерманом то в палатках, то в избах, то на сеновалах, то просто на земле на берегах Мещерских озер и рек, в лесных чащах, сколько было всяких случаев то опасных, то трагических, то смешных, – сколько мы наслышались рассказов и небылиц, к каким богатствам народного языка мы прикоснулись, сколько было споров и смеха, и осенних ночей, когда особенно легко писалось в бревенчатом доме, где на стенах прозрачными каплями темного золота окаменела смола.
Писатель Фраерман неотделим от человека. И человек неотделим от писателя. Литература призвана создавать прекрасного человека, и к этому высокому делу Фраерман приложил свою умелую и добрую руку. Он щедро отдает свой талант величайшей задаче для каждого из нас – созданию счастливого и разумного человеческого общества.
1948
Встречи с Гайдаром
Давно, еще в 1916 году, я был проездом в Арзамасе. Вырос я на юге и до тех пор не видал еще таких уездных городков, как Арзамас, – типично русских, вплоть до причудливых резных наличников, неизменной герани на окнах и дверных звонков, дребезжащих на заржавленной проволоке.
Старый Арзамас остался в памяти, как город яблок и церквей. Базар был заставлен плетеными корзинами с желтыми, крепкими яблоками, и куда ни взглянешь – всюду было такое обилие золоченых, похожих на эти яблоки куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных женщин.
Есть сотни маленьких городов в России. Никто даже толком не знает об их существовании. А вот Арзамасу повезло. Он вошел в народную поговорку: «Один глаз на нас, другой – на Арзамас». Его имя в начале девятнадцатого века было присвоено вольнолюбивому литературному обществу, основанному Жуковским. Пушкин был принят в это общество еще лицеистом. Поэту дали в «Арзамасе» чудесное прозвище – «Сверчок».
В Арзамасе жил в ссылке Максим Горький. А в начале двадцатого века в захолустном в ту пору Арзамасе, в простой русской семье народного учителя провел свое детство Аркадий Гайдар – замечательный советский писатель и столь же замечательный человек.
О Гайдаре-писателе я говорить не буду. Книги его широко известны. О них написано много хороших и справедливых статей. Я хочу просто рассказать о том Аркадии Гайдаре, которого я знал и с которым дружил в последние годы его жизни.
Я написал слова «просто рассказать» – и понял, что это, конечно, совсем не так просто. Это очень трудно – воссоздать образ ушедшего от нас человека без всяких прикрас, без того, чтобы не изображать его сусальным и шаблонным героем.
Иные воспоминания о Гайдаре как раз грешат этим. За мишурой, за слащавым умилением исчезает подлинный Гайдар – человек сложный, временами трудный, во многом противоречивый, как большинство талантливых людей, но обаятельный, простой и значительный в любом своем поступке и слове.
Есть очень верное выражение: «В настоящей литературе нет мелочей». Каждое, даже на первый взгляд ничтожное слово, каждая запятая и точка нужны, характерны, определяют целое и помогают наиболее резкому выражению идеи. Хорошо известно, какое потрясающее впечатление производит точка, поставленная вовремя.
Я говорю это к тому, что как в настоящей литературе, так и в жизни настоящего человека нет мелочей. Каждый, даже как будто бы пустяковый поступок или вскользь брошенная фраза раскрывают перед нами его облик еще в одном каком-нибудь качестве.
Гайдар был настоящим и большим человеком. Поэтому каждая даже «как будто бы мелочь», связанная с ним, определяет новую черту его глубокой натуры.
В своих воспоминаниях я приведу несколько таких кажущихся мелочей, тех «малых капель вод», в которых все же отражается солнце.
Главным и самым удивительным свойством Гайдара было, по-моему, то, что его жизнь никак нельзя было отделить от его книг. Жизнь Гайдара была как бы продолжением его книг, а может быть, иногда их началом. Почти каждый день Гайдар был наполнен необыкновенными происшествиями, выдумками, шумными и интересными спорами, трудной работой и остроумными шутками.
Все, что бы ни делал или говорил Гайдар, тотчас теряло свои будничные, наскучившие черты и становилось необыкновенным. Это свойство Гайдара было совершенно органическим, непосредственным – такова была натура этого человека.
Он прошел по жизни, как удивительный рассказчик, трогавший до слез детские сердца, и вместе с тем как проницательный и суровый товарищ и воспитатель.
Детей, особенно мальчишек, он знал насквозь, с одного взгляда и умел говорить с ними так, что через две-три минуты каждый мальчишка готов был по первому слову Гайдара совершить любой героический поступок.
Дольше всего мне пришлось прожить вместе с Гайдаром в селе Солотче, под Рязанью, в Мещерских лесах. Там он задумывал и писал некоторые свои повести и рассказы.
Писал Гайдар совсем не так, как мы привыкли об этом думать. Он ходил по саду и бормотал, рассказывал вслух самому себе новую главу из начатой книги, тут же на ходу исправлял ее, менял слова, фразы, смеялся или хмурился, потом уходил в свою комнату и там записывал все, что уже прочно сложилось у него в сознании, в памяти. И затем уже редко менял написанное.
Я в это время тоже работал в деревянной баньке и невольно прислушивался к бормотанью Гайдара. Я слышал, конечно, только те слова, которые он говорил, когда проходил мимо открытого окна баньки и искоса сердито поглядывал на меня – сердито потому, что Гайдар никак не мог понять, как это можно писать, сидя по нескольку часов, и к людям, работавшим именно так, относился с некоторой долей зависти и уважения.
– Если бы я мог вот так сидеть за столом, – сказал он мне однажды, – я бы уже написал целое собрание сочинений. Честное пионерское слово!
Потом те фразы, которые я слышал в заглохшем и тенистом деревенском саду, я встретил, как старых и добрых друзей, на страницах «Судьбы барабанщика», когда Гайдар принес мне в Москве только что вышедшую эту книгу.
– Вот эту фразу, – напомнил я Гайдару, – ты говорил, когда дожевывал яблоко. Штрифель.
– А эту, – ответил мне Гайдар, – я придумал, когда синица висела вниз головой на ветке клена, заглядывала к тебе в окно и хотела своровать семена настурции. Они сушились у тебя на подоконнике. Помнишь?
Так мы вспоминали строка за строкой всю историю придумывания этой чудесной книги, и Гайдар был этим очень доволен.
Иногда Гайдар приходил и без всяких обиняков спрашивал:
– Хочешь, я прочту тебе новую повесть? Вчера окончил.
– Конечно, читай.
И тут происходило непонятное. Обычно в таких случаях писатель вытаскивает рукопись, кладет ее на стол, разглаживает ладонью, торопливо закуривает, причем папироса у него тут же тухнет, говорит несколько невнятных и жалких слов о том, что он совсем не умеет читать и рукопись к тому же еще совершенно сырая, и только после этого хриплым и прерывающимся голосом начинает читать.
Гайдар никакой рукописи из кармана не вынимал. Он останавливался посреди комнаты, закладывал руки за спину и, покачиваясь, начинал спокойно и уверенно читать всю повесть наизусть страницу за страницей.
Он очень редко сбивался. Каждый раз при этом краснел от гнева на себя и щелкал пальцами. В особенно удачных местах глаза его щурились и лукаво смеялись.
Раза два мы, его друзья, на пари следили за его чтением по напечатанной книге, но он ни разу не спутался и не замялся и за это потребовал от нас такое неслыханное выполнение пари – что-то вроде покупки для него подвесного лодочного мотора, – что мы бросили это дело и никогда больше Гайдара не проверяли.
«Разве это свойство Гайдара что-нибудь доказывает, кроме того, что у Гайдара была блестящая память?» – с полным правом может спросить меня читатель, мало искушенный в деле литературного мастерства.
Дело здесь, конечно, не только в памяти (кстати, память у Гайдара после контузии во время гражданской войны была несколько нарушена), но в отношении к слову. Каждое слово гайдаровской прозы было настолько взвешено, что было как бы единственным для выражения и потому, естественно, оставалось в памяти.
Есть литературный термин «литая проза». Это проза четкая, суровая, в которой нет ничего лишнего: ее можно отливать из бронзы, даже из золота, и ни единая крупица драгоценного металла не пропадет зря, на пустое слово.
Гайдар любил идти на пари. Однажды он приехал в Солотчу ранней осенью. Стояла затяжная засуха, земля потрескалась, раньше времени ссыхались и облетали листья с деревьев, обмелели озера и реки, и черви ушли очень глубоко в землю. Ни о какой рыбной ловле не могло быть и речи. На то, чтобы накопать жалкий десяток червей, надо было потратить несколько часов.
Все были огорчены. Гайдар огорчился больше всех, но тут же пошел с нами на пари, что завтра утром он достанет сколько угодно червей – не меньше трех консервных банок.
Мы охотно согласились на это пари, хотя с нашей стороны это было неблагородно, так как мы знали, что Гайдар наверняка проиграет.
Наутро Гайдар пришел к нам в сад, в баньку, где мы жили в то лето. Мы только что собирались пить чай. Гайдар молча, сжав губы, поставил на стол рядом с сахарницей четыре банки великолепных червей, но не выдержал, рассмеялся, схватил меня за руку и потащил через всю усадьбу к воротам, на улицу. На воротах был прибит огромный плакат:
СКУПКА ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ!
Этот плакат Гайдар повесил поздним вечером. А утром около калитки уже бушевала толпа мальчишек с жестянками, полными червей. Шел жестокий торг, но в конце концов мальчишки согласились отдать червей по цене в три рыболовных крючка за жестянку.
С тех пор мы были всегда с червями, но перестали держать с Гайдаром пари. Это было бессмысленно, потому что он всегда выигрывал.
Он всегда был полон веселья, Гайдар. Искорки смеха роились в его серых глазах и исчезали редко – или во время работы, или в тех случаях, когда Гайдар сталкивался с карьеристами и халтурщиками. Тогда он становился жесток, беспощаден, бледнел от гнева.
Спуску он никогда не давал. Он приходил в ярость от мышиной возни маленьких и злых от неудовлетворенного тщеславия людей. Он преследовал их едкими стихами и беспощадными эпиграммами. Его боялись.
В Солотче Гайдар изучал французский язык. Он таскал в полевой сумке старый учебник французского языка с картинками. На них были изображены полевые работы или пейзаж с поездом, пароходом и воздушным шаром. Под этими картинками была надпись по-французски: «Что мы видим на этой интересной картинке?» Ученик должен был отвечать по-французски, что он видит. В этом состояло обучение.
Гайдару очень нравилась эта надпись под картинками. Несколько дней он при всяком удобном и неудобном случае спрашивал: «Что мы видим на этой интересной картинке?» – и тотчас сам себе отвечал, подражая ответам из учебника: «Мы видим облезлого деревенского кота, который украл рыбу, называемую плотицей и пойманную Рувимом Фраерманом, и уносит ее в зубах, пробираясь по верхушке деревянного забора».
Однажды мы возвращались с Гайдаром из Солотчи в Москву в маленьком поезде узкоколейки. Поезд погромыхивал среди глухих осенних лесов, и от позднего этого грохота выли, тоскуя, волки. Среди ночи Гайдар разбудил меня.
– Что мы видим на этой интересной картинке? – спросил он меня.
Но я ничего не видел, так как свеча в фонаре догорала и по вагону шатались длинные тени.
– Мы видим, – сказал Гайдар, – одного железнодорожного вора, который пытается вытащить из кошелки у доброй задремавшей старушки пару шерстяных сапог, называемых валенками.
Гайдар соскочил с полки, схватил за шиворот юркого человечка в огромной клетчатой кепке и сказал:
– Выди вон! И если еще раз ты попадешься мне в руки, то…
Гайдар не окончил. Вор вырвался, выскочил на площадку и на ходу соскочил с поезда. Нам, признаться, было даже его немного жаль – уж очень ненастная и волчья ночь шумела ветром за окнами вагона.
Мы много бродили по луговым и лесным озерам. В походах Гайдар был незаменим. Человек огромной силы, он безропотно тащил любой груз и ко всем неизбежным злоключениям в пути относился с добродушной иронией. Разговаривал он в дороге главным образом фразами в стиле старинных авантюрных романов.
– Усталые путники, – говорил Гайдар, – покидают берега неведомого и негостеприимного озера, таща на себе тяжелую и бесполезную поклажу, как-то: палатку, топор, фонарь «летучая мышь», и так далее, и тому подобное.
Гайдар с удовольствием перечислял все наше небогатое походное имущество. У него была хорошая и немного детская любовь ко всяким походным, охотничьим и ремесленным вещам – спиннингам, удочкам, рубанкам, топорам, отверткам, флягам и фонарям.
Каждый раз он выискивал в Москве какую-нибудь новинку, вроде самоподсекающего крючка или ножа с двенадцатью лезвиями, и с гордостью привозил эти новинки в Солотчу.
Он любил делать все сам, любил все чинить, возиться с механизмами и, как мы подозревали по некоторым признакам, чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы ему удалось разобрать на части и снова собрать старые ходики, висевшие в баньке. Но так как это были единственные часы на весь дом, то Гайдар все же не решался взяться за эти часы и только то подливал воду в бутылку, привязанную к гире, то немного отливал, пока не заставил ходики идти совершенно точно.
Невозможно забыть эти наши скитания с Гайдаром. Каждый из этих походов (Гайдар называл их «вылазками рыбачьего патруля») заслуживает описания. Но для этого надо написать целую книгу. Книгу об осенних непроглядных ночах на берегу безыменных лесных озер, о кострах, упрямых чайниках, о спорах, о сентябрьском звездном небе, о гайдаровских песенках, о том, как мы узнавали время по восходу Сириуса, о Черном озере и озере Сегден, где мы часто ночевали в одинокой избе удивительного и прекрасного человека – Кузьмы Зотова, о лугах, о стогах теплого сена, куда мы зарывались по ледяным ночам, о кущах ив на Прорве, под которыми при свете костра мы сидели всю ночь в черно-зеленой шумящей пещере из листвы, и Гайдар рассказывал о том, как он был во время антоновщины «командиром малой войны». Далеко на Оке все гудел в тумане буксир, а перед рассветом, как только засерело небо, потянули над нами перелетные станицы журавлей.
Гайдар долго слушал переливчатый журавлиный звон и сказал:
– Да! Чудесно так жить!
Такие вещи он говорил редко. Он был внутренне очень застенчив и часто напускал на себя излишнюю суровость.
О Гайдаре бродит по нашей стране много легенд. В основе их всегда лежит какое-нибудь подлинное происшествие с Гайдаром. Иной раз он сам создавал эти происшествия, эти легенды, чтобы поставить людей и себя в сложное и необыкновенное положение и найти из него остроумный выход.
Воображение у Гайдара не затихало ни на минуту. Часть его перелилась на страницы книг, а часть – и очень большую – своего могучего воображения он разбросал по всем дням своей жизни. Может быть, в этом и кроется причина такого обилия легенд о Гайдаре.
В начале этого очерка я писал, что жизнь Гайдара была иногда продолжением, а иногда и началом его книг. Года за два до того, как вышел «Тимур и его команда», Гайдар зашел как-то ко мне. У меня был трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного редкого лекарства. Его нигде не было.
Гайдар подошел к телефону и позвонил к себе домой.
– Пришлите сейчас же ко мне, – сказал он, – всех мальчиков из нашего двора. Я жду.
Он повесил трубку. Через десять минут раздался отчаянный звонок у двери. Гайдар вышел в переднюю. На площадке за дверью стояло человек десять мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся.
– Вот что, – сказал им Гайдар, – тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же – во все аптеки: на юг, восток, на север и запад! Из аптек звонить мне сюда. Все понятно?
– Понятно, Аркадий Петрович! – закричали мальчики и понеслись вниз по лестнице.
Вскоре начались звонки.
– Аркадий Петрович! – кричал взволнованный детский голос. – В аптеке на Маросейке нету.
– Поезжай дальше. На Разгуляй.
Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. Через сорок минут восторженный детский голос прокричал в трубку:
– Аркадий Петрович, есть! Я достал!
– Где?
– В Марьиной роще.
– Вези сюда. Немедленно.
Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче.
– Ну что, – спросил меня Гайдар, собираясь уходить, – хорошо работает моя команда?
Благодарить его было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. Никого же не благодарят за то, что он с вами поздоровался.
Мне случилось жить вместе с Гайдаром в Крыму, в Ялте. Это был, пожалуй, самый спокойный отрезок его жизни. Гайдар был непривычно задумчив и ласков.
Мы много ходили по горным дорогам, сидели у моря.
Впервые Гайдар был не в полувоенной своей одежде, а в мягком сером костюме. В нем он был как-то особенно светловолос, высок, изящен.
Стояла крымская тихая весна с теплыми темными ночами, с голубоватым утренним туманом, плеском моря, звоном родников.
Однажды мы шли с Гайдаром по пустынной Массандровской улице над самым морем. Гайдар остановился – из соседнего сада слышались встревоженные голоса, крики. Оказалось, что в саду вырвало кран из водопроводной трубы, проведенной по земле для поливки. Сильная струя воды била прямо в кусты роз и сирени, в клумбы с цветами, вымывала из-под них землю и вот-вот могла уничтожить весь сад. Люди бросились вверх по улице, чтобы закрыть какой-то кран и спасти сад.
Гайдар подбежал к трубе, примерился и зажал трубу ладонью. Поток воды остановился. По лицу Гайдара я видел, что он сдерживает мощное давление воды из последних сил, что ему невыносимо больно. Он почернел и стиснул зубы, но трубу не отпустил, пока не нашли кран и не перекрыли воду.
Потом Гайдар долго тяжело дышал. Ладонь у него была окровавлена. Но он был радостно настроен – не потому, конечно, что проверил свою силу, а потому, что ему удалось спасти маленький чудный сад.
Несколько раз потом Гайдар ходил и смотрел издали, из-за ограды, на этот спасенный им сад. Он был действительно прекрасен и стоял как густая охапка цветов, перехваченная маленькой каменной оградой.
Всего о Гайдаре не напишешь. Поневоле я должен ограничить себя этими беглыми воспоминаниями.
Я пишу эти строки в Солотче, в мезонине того дома, где жил Гайдар. Здесь все напоминает о нем. На стене висит его брезентовый плащ. На рыбную ловлю я хожу со спиннингом Гайдара. Не хватает только его голоса, его смеха, его рассказов и шуток, его самого – большого, доброго, талантливого человека, так героически погибшего и похороненного по полному праву рядом с другим великим певцом и глашатаем народного счастья – Тарасом Шевченко.







