
Кристал Харрис
Последняя девушка PLAYBOY: как мир мужских фантазий на 10 лет стал моей тюрьмой
ONLY SAY GOOD THINGS:
SURVIVING PLAYBOY AND FINDING MYSELF
Crystal Hefner
Copyright © 2024 Crystal Hefner
Слово Playboy используется в названии и тексте книги как часть личной истории автора и не является использованием зарегистрированного товарного знака Playboy Enterprises в коммерческих целях.
© Pranch / Shutterstock.com (http://shutterstock.com/) / FOTODOM
© Paul Redmond / WireImage / Gettyimages.ru;
© Charley Gallay / Gettyimages.ru
© Горин С. А., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
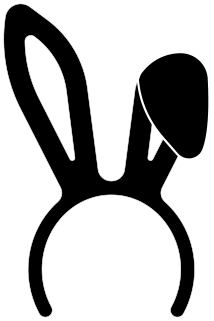


КРИСТАЛ ХЕФНЕР
(род. 1986) – всемирно известная модель, правозащитница и предпринимательница. Бывшая модель Playboy и вдова Хью Хефнера, сейчас она владеет бизнесом в сфере недвижимости и активно участвует в общественной жизни, делясь своими мыслями об опыте в Playboy и наследии своего мужа.
Она также занимается защитой прав животных и поддерживает различные благотворительные организации. В 2024 году выпустила книгу мемуаров, ставшую «мгновенным бестселлером New York Times» и «мемуарами года» по версии американских и британских СМИ.

Мы слышали истории о жизни в особняке Playboy, но никогда не получали таких проницательных описаний тьмы, лежащей в основе фантастического мира Хью Хефнера.
APPLE BOOKS
Мемуары Кристал Хефнер стирают часть блеска с печально известного наследия Playboy в том, что касается сексуальной свободы, роскоши и чрезмерности.
KIRKUS REVIEWS
Кристал не стесняется, даже когда описывает свою первую ночь в особняке, – и не испытывает никаких сожалений о раскрытии пикантных подробностей.
NEW YORK POST
Наглядное изображение женоненавистничества и тьмы особняка Playboy. Хочется отправить копию каждой молодой женщине, которая все еще верит, что наследие Playboy обладает каким-либо шармом.
ЭЛЛИ ФЛИНН, продюсер, сценарист
Вступление
The Promise
Вчера мне снова снился его особняк.
Во сне я изо всех сил мчу за рулем домой, чтобы успеть до комендантского часа. Солнце уже клонится к закату, и в зеркале заднего вида я вижу Лос-Анджелес, залитый золотым светом. Мне страшно до паники, потому что я не знаю, что случится, если я опоздаю. Я знаю, что мне нельзя опаздывать; ужас вцепляется своими когтями мне в глотку. Я давлю на газ, отчаянно пытаясь вовремя явиться в тот самый дом в готическом стиле, покрытый плющом, стоящий в окружении секвой, до того, как часы пробьют шесть. Но, как это обычно бывает во сне, все движется ужасно медленно, как в замедленной съемке, все такое странное и незнакомое, а дорога простирается до самого горизонта. Во сне я понимаю, что опоздаю. Я знаю, что дорога, по которой я еду, не приведет меня туда, куда мне надо.
Я знаю, что я заблудилась.
Я просыпаюсь с давно знакомыми ощущениями: страх, тошнота, тревога.
Я уже много лет как покинула его особняк. Я не была там с того самого дня, когда не стало моего мужа. Он умер – я ушла, и ноги моей там не было. Но, кажется, мое сознание, мой разум по-прежнему там. Я думаю об особняке гораздо больше, чем мне бы того хотелось. И не только когда он мне снится.
Во многих смыслах я все еще пытаюсь оттуда сбежать.
Я всегда должна была быть дома не позднее шести часов. Если я опаздывала, то начинались проблемы. Он расстраивался. Он звал меня по имени, крича на весь дом. Сотрудники особняка начинали судорожно звонить мне по телефону ровно в 18:01, хотя в это время я уже пробиралась по длинной извилистой дорожке, огибая высокий каменный фонтан, увенчанный херувимом, который смотрел на меня пустыми мраморными глазами. А потом я вбегала в дом, толкая тяжелую деревянную дверь, и шла искать Хефа, чтобы поцеловать его в щеку и показать ему: вот она я, я дома, я придерживаюсь правил.
Я хорошая девочка.
Почти десять лет особняк «Плейбой» был моим домом. Но домом он был чисто технически. Он был местом, где я всегда была посетителем.
Как отель, в который я заселилась, но никак не могла уехать. Как сцена, на которой я выступала под взглядом множества незнакомых глаз. Иногда мне казалось, что я попала в прошлое. Хеф еще в семидесятых обставил дом по высшему разряду, и все выглядело точно так же, как и тогда: ковры с высоким ворсом, деревянные панели и люстры, тяжелые бархатные портьеры. Мне не разрешалось ничего менять.
Лишь одно место мне удалось сделать своим: крошечная комнатка, которую мы называли Vanity, «комнатой тщеславия» – по сути, просто кладовка, но с небольшим количеством длинных и узких окон. Комнатка тщеславия находилась рядом с главной спальней, или хозяйской спальней, как ее называл Хеф. В комнатке была хлипкая дверь, которая задвигалась, но не запиралась.
Там было достаточно места для небольшого встроенного стола и стула. Это было моим маленьким убежищем, местом, где можно было побыть одной и без присмотра. В особняке в каждой комнате всегда кто-то находился: другие девушки, гости вечеринки, персонал. На диване рядом, неловко прислонившись ко мне, сидел друг Хефа. В коридоре стоял знаменитый киноактер, который хотел меня облапать. Ни одну дверь я запереть не могла, потому что все ключи были копиями. Разумеется, у Хефа был ключ от всех дверей в доме, и этот ключ гарантировал, что никто и никогда не сможет его запереть. Это был его мир, и он владел ключом от всех и вся.
В комнатке тщеславия же я могла по крайней мере на несколько минут положить голову на руки и перестать притворяться. Перестать каждую секунду беспокоиться о том, как я выгляжу.
Правильно ли я улыбаюсь. Правильная ли у меня поза. Одета ли я в соответствии с тем, как ему нравится.
Правильная ли у меня прическа.
Достаточно ли идеальна моя грудь.
Как я выгляжу по сравнению с другими женщинами. Вокруг всегда были другие женщины. Нам ясно давали понять, что это было соревнование.
В комнатке тщеславия я выкраивала короткие моменты, маленькие сияющие мгновения, когда я могла глубоко вздохнуть и выйти из «рабочего режима». Утомительно ежедневно и еженощно играть чужую роль. Ты утомляешься и физически, и умственно до такой степени, что кажется, что сама твоя душа вымоталась до предела, словно твоя батарейка жизненной энергии разрядилась.
Окно маленькой комнатки тщеславия на втором этаже выходило на лужайку, где расхаживали павлины и сновали разномастные служащие со стульями, тарелками с едой и ящиками с вином, готовясь то к одной, то к другой вечеринке. Вокруг окна рос плющ, который, как в сказке, густо покрывал каменную кладку. Иногда я представляла себя Рапунцель, запертой в своей башне и ждущей, что кто-то ее спасет. Но на помощь так никто и не пришел. И забралась я в свою башню добровольно.
Тогда я еще не знала, что могу спастись сама. Я не всегда понимала, что меня нужно спасать, но я знала, что я в ловушке.
Павлины на лужайке были красивы, но территорию свою охраняли ревностно, особенно во время брачного периода. Временами их крики были похожи на кошачьи вопли, а временами на женские, раздававшиеся в моей маленькой каморке, и даже при закрытом окне я слышала их жалобные голоса в своем сознании. «На помощь, на помощь», – раздавались их крики и причитания; по крайней мере, мне так казалось.
Иногда я думаю обо всех женщинах, которые сидели за этим столиком; все мы верили, что это крошечная, душная каморка олицетворяет собой нечто гораздо большее. Успех. Гламур. Свободу. Холли даже вырезала свои инициалы на богато украшенном дереве, пока, спустя годы после свадьбы, я не заставила их сошлифовать. Я не стала взамен оставлять свои. Стол был чем-то постоянным в доме, где я была чем-то временным. Там я находилась, но он не был моим домом. В этом огромном, роскошном особняке вообще мало что было моим.
Целых десять лет своей жизни я провела в особняке «Плейбой». Сначала я была просто гостьей – девушкой с большими звездами в больших, наивных глазах, на вечеринке. Затем я стала «подружкой». Я стала членом, пожалуй, самого громкого и заметного гарема нашего времени. Я стала девушкой с разворота журнала – вершина успеха в мире «Плейбой» на газетных киосках по всей стране. Я стала невестой одного из самых могущественных, противоречивых, легендарных мужчин в глазах общественности. А потом я ушла и стала его «сбежавшей невестой» – единственной, за кем он когда-либо гонялся. А потом я стала его женой. В конце концов я стала его сиделкой. А когда он умер, я стала вдовой и символом. Официально, сначала как вице-президент, а затем как президент правления Фонда Хью Хефнера, я занималась тем, что помогала фонду получать хорошее финансирование и пользоваться заслуженным авторитетом. Неофициально же я была обязана воплощать собой миф о «Плейбое», служить воплощением мифа о Хью Хефнере. На протяжении более семи десятилетий он прилагал столько усилий, чтобы контролировать представление о том, кем он был, каким он был. Он считал, что самое ценное, что он мне оставил, – это возможность обессмертить свою историю после смерти.
До сих пор я поведала лишь малую часть своей истории. Я рассказывала только о блестящих, гламурных подробностях – о том, что люди хотели услышать. Только хорошее. Отчасти это происходило потому, что я не хотела изображать себя жертвой. Отчасти потому, что не хотела расстраивать его семью. А в основном потому, что я дала Хефу слово.
В последний год моего пребывания в особняке Хеф хотел, чтобы я всегда была рядом с ним. Я всегда должна была быть дома не позже определенного часа, но со временем этот час наступал все раньше и раньше. Когда он не знал, где я, то поднимал на ноги весь персонал. Хеф был хрупким и усталым, но о смерти говорил редко.
Единственное, что он хотел до меня донести, – это то, что он хочет быть похороненным в мемориальном парке Вествуд-Виллидж рядом с Мэрилин Монро. Еще в девяностые годы он приобрел склеп за семьдесят пять тысяч долларов. Он сказал, что ему наплевать на то, как пройдут сами похороны; все эти детали он оставляет на мое усмотрение.
«Меня там не будет, – все, что он сказал. – Делай что хочешь». Все, что его волновало, – это то, что он окажется в том месте, которое купил, рядом с местом Мэрилин. Она была первой женщиной, которая украсила обложку «Плейбоя» и появилась на его страницах обнаженной. Он поместил ее туда без ее согласия после того, как купил фотографии у какого-то издания, выпускавшего календари. Она не получила ни цента. И у нее уж точно не было возможности решать, чьи кости будут лежать рядом с ее костями до конца дней.
Я промолчала. Если он этого хотел, значит, так тому и быть. Хеф всегда получал то, что хотел.
Он часто говорил мне, что любит меня.
Он говорил, что будет ждать меня в другой жизни. Я пыталась воспринимать это как нечто приятное, но это чувствовалось как ярмо, практически как угроза.
Днем я часто каталась на машине, просто чтобы выбраться из этого дома. Каждый раз, когда я садилась за руль, я думала о том, как мне не дали уйти. О том, как мне пришлось пробираться мимо охранников, чтобы сбежать. И о том случае, когда я по своей воле вернулась обратно.
Я колесила по Лос-Анджелесу, городу, который я плохо знала, потому что на протяжении десяти лет меня не выпускали из особняка. Однажды я доехала до самого Сан-Диего через грязные кварталы, в которых я выросла, переезжая из квартиры в квартиру после смерти отца; мимо шикарных кварталов, где мы жили, когда моя мама встречалась с кем-то богатеньким.
Я проезжала мимо кампуса колледжа, в котором когда-то училась на специальности «психология», мечтая помогать другим. Я проезжала мимо крошечной квартирки, в которой когда-то жила. Я проезжала мимо кладбища, где много лет назад была похоронена моя первая любовь, когда мы оба были так молоды. Я ехала на пляж, где мой отец любил рыбачить – он всегда любил океан. Я проезжала через все потери, горе, растерянность и ошибки, которые я совершила. В этот момент я задумалась, кем бы я стала, не отвези меня как-то одной ночью автобус особняка «Плейбой» на вечеринку в честь Хеллоуина. Мой выбор – моя ответственность, однако цена была гораздо выше, чем могла себе представить двадцатиоднолетняя я.
Во время таких поездок я иногда звонила маме – она была одной из немногих людей, кому я могла по-настоящему довериться. В особняке у меня не было настоящих друзей. Каждый мог ударить тебя в спину, будь на то хоть мизерный шанс. Все шпионили друг за другом. У нас с мамой были как хорошие, так и плохие времена, но я всегда могла ей доверять. Я рассказывала ей о том, что чувствую себя в ловушке, что меня охватывает паника, что иногда мне трудно дышать, словно моя грудь обтянута железным ободом, который не дает по-настоящему вздохнуть.
– Доченька, – каждый раз говорила она мне, – у тебя есть деньги. Тебя там никто не держит. Просто собери свои вещи и уезжай!
– Я не могу его бросить, – отвечала я ей. А потом давила на газ, потому что боялась, что меня не будет слишком долго. И потому что я знала, что однажды уже сбежала и понятнее для меня ничего не стало.
Когда-то давно я отчаянно нуждалась в Хью Хефнере, а потом, позже, он отчаянно нуждался во мне.
Девяносто первый день рождения Хью Хефнера, состоявшийся в апреле 2017 года, стал для него последним. Он был таким же, как и все предыдущие свои дни рождения. Темой, как всегда, была «Касабланка». Он любил старые фильмы, черно-белую классику, где женщины были типичными беспомощными барышнями, а мужчины – мужественными и сильными, но «Касабланка» была его любимым фильмом. Мы показывали его каждый год в день его рождения в кинозале, где все гости были в костюмах: мужчины в белых смокингах, женщины в облегающих платьях в стиле 1930-х годов. Столовая была оформлена как кафе Рика[1], с плакатами на стенах и декорациями, намекающими на пыльный марокканский бар для экспатов. В конце фильма, когда Рик и Ильза расставались, он плакал. Что-то в этом обреченном романе действительно задевало его за живое. К этому времени я уже знала, что он может быть очень сентиментальным.
Но также он мог быть и очень жестоким.
В тот вечер, в свой девяносто первый день рождения, он, как всегда, расплакался в конце фильма. Он повернулся и посмотрел на меня со слезами на глазах, показывая, что расстроен, как бы говоря: «Сделай что-нибудь! Мне грустно!»
Я взяла его за руку и поцеловала.
Раньше он одевался как Хамфри Богарт[2], носил белые костюмы со смокингами, но теперь у него уже не было на это сил. Вместо этого он надел свою обычную шелковую пижаму, на сей раз черную, а я накинула ему на плечи белый пиджак от смокинга, пытаясь воссоздать былые вечеринки. После фильма все направились в обеденный зал. Я держала Хефа за руку, а он крепко на меня опирался. Он ходил с трудом, но я не хотела, чтобы кто-то это видел. Для всех них он должен был оставаться Хью Хефнером. Он не мог быть стариком. Как и женщины, которыми он украшал себя, он не мог позволить, чтобы люди видели в нем что-то настолько неприглядное, как возрастные изменения. В тех фильмах, которые он без конца пересматривал, актеры не старели, не менялись, не поступали по-другому.
Хефу был девяносто один год, но в его голове ему всегда было полвека; его волосы были густыми и темными, его трубка дымилась, а женщины всегда смотрели на него с благодарностью, готовностью и жаждой. Даже когда он опирался на меня в свой день рождения, в мыслях он все еще оставался тем, кем хотели быть все мужчины и кого хотели все женщины. Тем, кто обладал абсолютной властью. На столе стояли блюда с омарами и тысячедолларовые баночки с икрой. Персонал наливал шампанское в бокалы-креманки до самых краев. Обычные излишества мира «Плейбой». Я стояла, держа Хеффа за руку, позволяя ему опираться на меня, так, чтобы никто не догадался. Сверкали вспышки камер. Люди все время фотографировались. В особняке нужно было постоянно думать о том, как ты, если что, будешь выглядеть на страницах журнала. Нужно было постоянно следить за своим лицом, телом, за своими жестами, позами и выражением лица. В тот самый момент я старалась выглядеть счастливой женой.
Затем вынесли праздничный торт, как всегда безупречно оформленный: наша с ним фотография, нанесенная на глазурь. Хеф – Богарт, я – белокурая Бергман. До меня на торте было лицо Холли, до нее Тины, Брэнды, Кимберли… парад блондинок, чередой следовавший друг за другом.
– Задуйте свечи! – сказала я. Затем улыбнулась и захлопала в ладоши.
На фотографиях с той вечеринки я смеюсь. На мне безупречный макияж и сияющее платье. Мои золотистые волосы спускаются роскошными, сексуальными волнами на плечи в классическом стиле журнала «Плейбой». Но камеры не видят всего, что я скрываю: что Хеф умирает и что я тоже больна. Я нутром чую: что-то не так. Я измотана. Мой мозг словно в тумане, я едва могу думать. Кажется, что мои кости горят. Я не вылезаю от врачей, пытаясь выяснить, в чем дело; я прошла интенсивный курс антибиотиков, мне сделали операцию по удалению грудных имплантатов, которые я вставила более десяти лет назад. Я все еще чувствую себя ужасно. Я трясусь. Я слаба. Я не знаю, в чем именно дело, но внутренний голос говорит мне: особняк «Плейбой» убивает меня.
Мне всего тридцать один год, но, как и Хеф, я чувствую себя старухой, словно, как и он, умираю.
В конце ночи двое здоровенных бывших военных санитаров подняли Хефа по лестнице. Я помогла ему переодеться из черной шелковой пижамы во фланелевую, в которой он теперь предпочитал спать. Я помогла ему лечь в кровать. Кровать была огромной, покрытой искусной резьбой. На потолке по-прежнему висело зеркало, в которое он любил смотреться, когда лежал на этой кровати в окружении принадлежащих ему женщин. В этот вечер, как и в другие вечера, он хотел поговорить о своем наследии и о том, как имя Хью Хефнера будет жить после его смерти. Он всегда говорил, что хочет, чтобы его запомнили как человека, который производит огромное впечатление. Того, кто изменил сексуальные нравы своего времени. Он мнил себя титаном американской истории: тем, кого уважают, кем восхищаются и кого считают героем.
– Я хочу, чтобы ты вошла в совет директоров моего фонда, – произнес он, пока я стаскивала с него тапочки и поднимала его бледные, почти полупрозрачные ноги под шелковыми простынями. – Я хочу, чтобы ты и дальше продолжала мое наследие.
Затем он остановился и посмотрел на меня.
– И я хочу напомнить тебе, – сказал он, не сводя с меня глаз, – чтобы ты говорила обо мне только хорошее.
Он умел быть властным и снисходительным, даже когда просил об одолжении.
Я колебалась, но едва ли.
– Конечно, – сказала я.
– Дай мне слово, – ответил он.
Я посмотрела на него, такого хрупкого, слабого и маленького на этой большой кровати, и сглотнула, когда мне захотелось сказать гораздо больше.
– Я буду говорить только хорошее, обещаю.
Он улыбнулся и похлопал по пустому месту на кровати рядом с собой. Он уснул еще до того, как я легла в кровать, но я еще долго лежала без сна, думая о своем обещании. Чем оно было, так оно и чувствовалось: тяжким грузом, который мне предстояло нести до скончания времен.
Шесть месяцев спустя Хеф подцепил какую-то незначительную болячку. Поначалу казалось, что это излечимо: врачам нужно было только подобрать правильный антибиотик для лечения именно этого штамма бактерий, и все было бы в порядке. Конечно, ему было уже за девяносто, но он пережил и не такое. Он пережил рак. Но в данном случае речь шла о кишечной палочке – агрессивной ее форме. Когда врачи заговорили о том, что он вряд ли выживет, я была в растерянности и в бешенстве. Я отчаянно хотела покинуть этот особняк, закончить этот брак, но не таким образом. Смерть, будь то смерть людей или домашних животных, всегда выбивала меня из колеи. Когда смерть уже на пороге, я вдруг становлюсь ребенком – дрожащим от страха, в панике пытающимся не впустить ее в дом. Я начала обзванивать знакомых врачей в Лос-Анджелесе, у которых могли быть в наличии другие антибиотики. Я знала, что, найди я тогда нужный антибиотик, Хеф бы выжил.
Но я не нашла.
После его смерти пресса требовала от меня заявлений. Мой телефон разрывался от звонков. Гора букетов у входных ворот росла как на дрожжах. Чтобы люди могли входить и выходить, персонал время от времени спускался вниз и убирал груды смятого целлофана и увядших цветов. Были открытки и письма, в которых говорилось о том, как много он значил для людей. Хеф был бы рад этим душевным излияниям; он бы сфотографировал каждую записку и завел бы еще один альбом, в котором хранил бы весь этот подхалимаж. У него были тысячи альбомов, рассортированных по темам, событиям и временам, которые он хотел запомнить.
Первые несколько недель я провела взаперти. Я не выходила из дома. Я не знала, что делать, куда идти. Более того, я не понимала, что вообще я из себя представляю за воротами особняка «Плейбой».
Однако мне предстояло во всем разобраться, причем быстро. Более чем за год до этого особняк уже купил какой-то миллиардер, хотевший иметь свой собственный кусочек легенды. Новый владелец согласился позволить Хефу продолжать спокойно жить в особняке до конца своей жизни. Но теперь, когда Хефа не стало, особняк нам уже не принадлежал, и пришла пора собирать вещи.
Наконец я села, написала свое заявление и отправила его в редакцию журнала «Плейбой». Там его немного поправили, и мы его опубликовали.
«Я так и не смогла заставить себя поблагодарить большинство из вас за ваши соболезнования, – писала я. – Я вне себя от горя. Я до сих пор не могу поверить в произошедшее. Мы предали его земле в субботу. Сейчас он там, где он хотел провести вечность. Он был американским героем. Первопроходцем. Доброй и скромной душой, открывшей миру свою жизнь и свой дом. Я чувствовала, как сильно он меня любил. И я так сильно его любила. Я бесконечно ему благодарна. Он дал мне жизнь. Он дал мне ориентиры. Он научил меня доброте. До конца времен я буду благодарить жизнь за то, что была рядом с ним, держала его за руку и говорила ему, как сильно я его люблю. Он изменил мою жизнь, он спас меня. Он заставлял меня чувствовать себя любимой каждый день. Для всего мира он был словно маяк; он был силой, не похожей ни на что другое. Никогда не было и не будет другого такого же Хью М. Хефнера».
Я говорила только хорошее.
Когда я писала это заявление, я не лукавила. Я была вне себя от горя, вдребезги разбитой.
Я была в шоке от того, что его больше не стало. Он во многом казался бессмертным; даже когда в последние годы он поблек, он казался чем-то, что никогда не умрет. Жизнь с ним была похожа на тюрьму, но при этом я чувствовала себя в безопасности. Скорбь и утрата вдохновили меня на эти слова. Но мне кажется, я уже не знала, что на самом деле чувствую и думаю, поэтому снова стала говорить то, что, как мне казалось, люди хотели от меня услышать. Я настолько долго вела себя таким образом, что уже не знала, что хочу сказать, а что должна. Все смешалось у меня в голове.
Только хорошее. Это я могла. Я дала слово.
И я долго держала свое слово.
Однако это обещание губило меня. Когда я взглянула на мир за стенами особняка, то увидела, что токсичные стандарты красоты, в попытке достичь которых я едва не покончила с собой, крепко пустили свои корни в этой культуре. Я видела, как молодые девушки наступают на те же грабли, что и я; что их чувство собственной ценности зиждется на внешней красоте, что они отчаянно ищут одобрения от других людей в виде лайков и кликов. Я думала о той девушке, которой я была когда-то, еще до особняка, до всего этого, – как бы я хотела, чтобы кто-то тогда сказал бы мне, что мне не обязательно ломать себя, чтобы уместиться в этот стандарт, для того чтобы быть привлекательной, заслуживающей внимания, любимой.
Я хочу рассказать реальную историю моего пребывания в особняке «Плейбой»: хорошее и плохое, мрачное и светлое. Я хочу рассказать честную историю своей жизни, которая является историей множества девушек и женщин, растущих с верой в то, что их ценность зависит от того, как они выглядят, и что другие люди могут дарить и отнимать их ценность как людей. Я хочу рассказать историю, которую хотела бы услышать в молодости, когда пыталась найти свой путь в мире; до того, как появилась на вечеринке, согласилась остаться и приняла решения, определившие мою жизнь.
На протяжении десяти лет я жила там, где самым важным было то, как мужчины воспринимают мою красоту и привлекательность. Ценность женщины заключалась в том, чтобы быть притягательной для мужчин, быть самой сексуальной, самой совершенной, самой доступной. Существовали четкие правила, касавшиеся лица, волос, макияжа, тела, одежды. А поскольку это была Америка Хью Хефнера, это значило быть самой блондинистой и самой худой. Также существовали весьма конкретные правила поведения. Я должна была вести себя определенным образом. Я должна была интересоваться определенными вещами. Я должна была быть покладистой. Уступчивой. Я должна была позволять людям прикасаться ко мне, небрежно, словно я была предметом интерьера. Я и была предметом интерьера. Я должна была возвращаться домой строго в определенное время. Я должна была посещать мероприятия с улыбкой на лице. Я должна была быть доступной во всех отношениях. У меня не было места для собственного мнения или мыслей, поэтому со временем я приучила себя отказываться от них. Я не могла сказать «нет». Точнее, могла, но, если бы я это сделала, мне пришлось бы уйти. Как говорил Хеф, ханжей никто не любит, и я могла сама решать, оставаться мне или уходить. После того как я побыла там некоторое время, выбора у меня уже и не оставалось.
В особняке всегда спрашивали: «Что вы предлагаете?» Это было место, где все делалось по принципу «ты мне, а я тебе». Вся сложность заключалась в том, чтобы держать в памяти все свои сделки. Хитрость заключалась в том, чтобы не отдать слишком много. В этом случае было очень легко проиграть.
Многие женщины приходили и следовали этим правилам в стремлении добиться успеха. Если им удавалось закрепиться в особняке, то, возможно, они могли попасть на разворот. Если они попадут на разворот, то, возможно, смогут пробиться в модельный бизнес. Если они станут моделями, то смогут зарабатывать этим на жизнь. У них действительно был шанс добиться успеха. Я в это верила, все мы в это верили.
И это было не только мнение, которое впаривал нам Хеф. Мир за пределами особняка твердил нам то же самое.
Раньше я верила, что женщины, которые вращались рядом с Хью Хефнером, гламурны и всесильны. Я видела их рядом с ним в эксклюзивных закрытых зонах в клубах и на вечеринках и думала: они, должно быть, большие люди. Должно быть, они действительно важные. Но потом я стала одной из них и увидела, что другие женщины смотрят на меня теми же голодными глазами, полными зависти, что и я, когда мне был двадцать один год.
Мне хотелось сказать им: это не то, что вы думаете.
Я хотела сказать им: идите домой.
Я хотела сказать: бегите отсюда.
В двадцать один год, 31 октября 2008 года, я оказалась на крыльце особняка «Плейбой» с целым автобусом других молодых женщин. Нас трясло от предвкушения, нервов и надежды, мы были словно дети, стучащиеся в двери на Хеллоуин с ведром для конфет, стремясь сорвать самый сладкий куш. Богато украшенная парадная дверь особняка казалась нам дорогой к успеху, местом, где могут осуществиться все наши мечты. Но большинство из нас не подозревали, что внутри нас ждет лабиринт.
И как только ты туда входишь, найти выход становится очень сложно. Так что да, когда-то я дала слово говорить только хорошее.
Но теперь я наконец-то готова рассказать правду.


