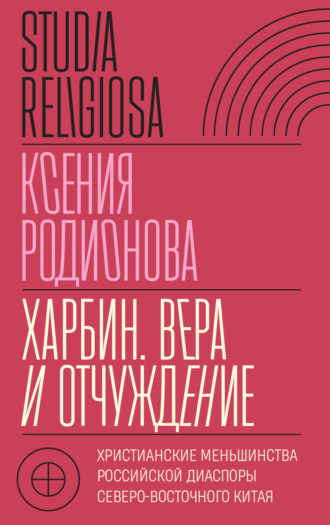
Ксения Родионова
Харбин. Вера и отчуждение. Христианские меньшинства российской диаспоры Северо-Восточного Китая
Контроль над религией: религиозная политика Маньчжоу-Го
К началу 1930‐х годов Японская империя стала выполнять план по оккупации Маньчжурии, который разработал и представил императору Японии 25 июля 1927 года премьер-министр страны Танака Гиити. По задумке премьера покорение империей Востока должно было начаться с Монголии и Маньчжурии, где особенно слабым регионом был Район Трех Восточных провинций68 (Особый район Восточных провинций). В 1931 году японские войска вторглись на территорию Китая и 5 февраля 1932 года заняли Харбин. Уже 9 марта этого же года вторжение привело к созданию марионеточного69 государства Маньчжоу-Го во главе с представителем маньчжурской династии Пу И.
Первые годы существования Маньчжоу-Го политика государства позиционировалась как лояльная и веротерпимая. Русская диаспора наравне с иными национальными общинами составляла разнообразную этническую и конфессиональную мозаику страны. Современники событий характеризовали законодательство Маньчжоу-Го в религиозной сфере как терпимое. Империя провозгласила свободу совести и полную веротерпимость, что отображалось в ее основных законах, которые «неукоснительно соблюдались»70. Свобода религии провозглашалась в первом документе нового государства – «Декларации о создании Маньчжоу-Го», в которой было обещано:
Образование будет всюду распространено; культы и религии – уважаться. Таким образом, будет осуществляться принцип Ван-Дао. Всем народностям, живущим в новом Государстве, мы несем радость, подобную весне, и, добившись сияния вечного мира в Восточной Азии, мы сделаем Новое Государство примером для всего мира71.
Интересно и то, что первоначально религиозная политика государства была либеральной, современники событий примечали: разные народности и верования действительно поддерживались. Исконная маньчжурская и китайская культура внешне почиталась, об этом говорит само указание принципа Ван-Дао, конфуцианского понятия истинного пути правителя, в отношении направления политики государства. Главная цель этой тактики японского правительства – не вызвать у населения негативных настроений в первые неустойчивые годы правления страной.
Особое внимание правительство марионеточного государства уделяло межэтническим отношениям. В Маньчжурии проживали самые разные народы с собственными культурными и национальными особенностями. Японские власти, чтобы расположить к себе национальные общины в первые годы, предоставляют им значительную свободу действий. Такие заявления Пу И, как: «Мы уничтожим различия между народами, не допустим международных столкновений»72, являются тому подтверждением. 25 июля 1932 года была принята «Декларация об учреждении Киовакай». Общество Киовакай, или Сехэхой (в переводе с китайского «Общество мира и согласия»), было единственной общественной организацией, учрежденной государством. С 1936 года ее членами становилось все население империи73. Деятельность общества была многообразной, в задачи организации входило и обеспечение мира среди многонационального населения Маньчжоу-Го, и воспитание уважения к его конфессиональному многообразию.
В 1932 году указом Верховного правителя Маньчжоу-Го создается ряд министерств для административного регулирования страны. Религиозные организации полностью переходят под контроль министерства народного просвещения. В ведении министра народного просвещения оказались вопросы просвещения, традиций, религии, церемоний и духовного развития народа74. В состав министерства вошли три департамента: департамент общих дел, департамент народного просвещения, департамент церемоний и религии75. Именно департаменту церемоний и религии стали подконтрольны религиозные организации в бывшей полосе отчуждения КВЖД. Указом Пу И отмечалось, что в ведении департамента находятся:
1) дела, касающиеся духовного развития народа;
2) дела, касающиеся социального образования;
3) дела, касающиеся религии;
4) дела, касающиеся церемоний и традиций76.
Учебные заведения, открытые христианскими церквями, теперь относились к департаменту учебных дел.
До 1933 года государственный контроль за религиозными организациями практически полностью отсутствовал. Но в ноябре 1933 года правительство Маньчжоу-Го заявило об установлении обновленных правил, касающихся организации религиозного культа, которые позже будут опубликованы в новом законопроекте. 21 ноября министерство просвещения Маньчжоу-Го опубликовало директиву с запретом выдачи разрешений на открытие новых религиозных организаций до вступления в силу нового закона77. Больше русскоязычные протестантские или католические общины в Маньчжурии не создавались и не регистрировались.
В 1934 году Маньчжоу-Го было провозглашено империей и переименовано в Маньчжоу-Диго, или Великую Маньчжурскую империю, а верховный правитель Пу И был наречен императором78. Столицей Маньчжоу-Диго стал Синьцзин, Харбин – центром Бинцзянской провинции79.
Одной из первых же мер по новому административному делению государства стала конфискация церковных земель. В газете Гун-Бао вышла статья, в которой указывалось на то, что все земли принадлежат Великой Маньчжурской империи. Взамен изъятых у церквей территорий подразумевалась компенсация. О каких конфессиях шла речь в тексте, сведений не было80. Также нет сведений о реальном изъятии земель у христианских меньшинств российской диаспоры или конфликтах на этой почве.
Государство приступило к первым шагам по национальному регулированию, в особенности к контролю за многочисленной российской эмиграцией. Для этого 28 декабря 1934 года был создан специальный административный орган – Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ). В его ведении оказалось около 110 тысяч русских, а около 60 тысяч из них были эмигрантами81. В 1935 году Маньчжоу-Диго покинуло около 25 тысяч советских граждан, но, несмотря на это, советская колония все еще оставалась там значительной. Многие граждане СССР решают покинуть Маньчжурию или перейти в эмигрантское состояние82.
Законы и распоряжения доходили до российской диаспоры через значительное время после выхода: они переводились на русский язык и издавались отдельными сборниками. Инициатором издания переводов законодательства были властные структуры Маньчжоу-Диго. Сами переводы выполнялись и издавались БРЭМ.
В декабре 1936 года в Мукдене было организовано Объединенное общество христиан, проживающих в Маньчжурской империи, куда вошли православные, католические и протестантские общины. Объединение осуществляло функции связующего звена между христианскими церквями83. В целом жизнь христианских меньшинств это общество не изменило.
Правительство марионеточной империи подвергало резкой критике политику Гоминьдана, направленную на борьбу с иностранным засильем84. Но и Маньчжоу-Диго постепенно начинало менять свою политику по отношению к различным категориям иностранных граждан, проживавших на ее территории. Лозунг первых лет правления «Предоставить всем религиозную свободу»85 оставался лишь в печати, реально же в религиозном законодательстве страны проявлялось главенство синтоизма – автохтонной религии Японии. Территорию подстраивали под Японскую империю, для чего в большом количестве в Маньчжурию переселяли японцев. Для обслуживания их духовных нужд строили синтоистские храмы.
Синтоизм начинает упоминаться в законах Маньчжурской империи. Высочайшим Указом № 1 от 4 января 1937 года была добавлена дополнительная статья Уголовного кодекса империи:
Статья 179. Виновный в публичном оказании неуважения к синтоистским храмам жертвенникам, кумирням, буддистским, даосским храмам и другим молитвенным местам наказывается каторжным тюремным заключением или тюремными заключениями на срок до пяти лет или денежным штрафом до пятисот юань.
Предыдущая часть статьи также относится к виновному в препятствовании религиозным церемониям, похоронам, проповедям и молениям86.
Впоследствии официальной идеологией марионеточного государства становится принцип Хакко итиу – японский геополитические лозунг, который переводится как «Восемь углов под одной крышей». Под Хакко итиу подразумевалось объединение Азии под управлением Японии87. Создание Великой Маньчжурской империи приписывалось божественному промыслу синтоистской богини Аматерасу88. В стране праздновались день основания Маньчжоу-Диго (1 марта) и день Аматерасу (15 июля)89.
В русской диаспоре большое влияние приобрели Российский фашистский союз90 (далее РФС, или Всероссийская фашистская партия – ВФП) и БРЭМ, непосредственно связанные с японской администрацией и поддерживаемые ею. Организации выступали за сохранение первенства православной церкви в среде русской эмиграции. Глава русских фашистов в Харбине К. В. Родзаевский был вице-председателем Православной комиссии по борьбе с безбожием91. Официально эта позиция выразилась в «Обращении Главного Бюро по делам Российских эмигрантов в Маньчжурской Империи к Российской эмиграции», где, несмотря на утверждения о «широкой веротерпимости» и «уважении других вероисповеданий», русскую диаспору призывали к сохранению православной веры92. Подчеркивалась обязательность уважительного отношения эмигрантов к Маньчжоу-Диго93.
Тем временем со стороны РФС началась критика протестантских конфессий: газета партии «Наш путь» публиковала статьи с обвинениями пасторов в ненадлежащем поведении и даже шпионаже. В личных делах служителей церкви, сформированных БРЭМ, было собрано большое количество донесений на имя начальника Штаба Модягоуского района РФС от члена партии Николая Григорьевича Половодова. Именно он вел наблюдение за протестантскими священниками, был лично знаком со многими из них и являлся агентом РФС. Для получения информации о жизни церквей Половодов стал членом двух протестантских общин (пятидесятников и методистов) в Харбине и постоянно посещал службы других христианских конфессий94. Со стороны японцев слежку за христианскими общинами вел японец Какаэс, одновременно отправлявший доносы в БРЭМ и в Японскую военную миссию (ЯВМ) на имя сотрудника миссии Ямадзи.
Именно протестантские миссионеры, граждане различных стран, вызывали наибольшие опасения у японских властей. Следующим шагом по выстраиванию контроля над религией явилось ограничение деятельности всех проповедников, церкви которых не были официально зарегистрированы в Маньчжоу-Диго. В мае 1939 года вышло «Временное положение для храмов и миссионеров» (Постановление Министерства занятости № 93). Оно требовало получить обязательный сертификат для ведения религиозной деятельности. Сертификат выдавали после заявления пастора церкви в Министерство по гражданским делам страны и только миссионерам, закрепленным за определенной церковью, полностью отвечавшей за действия своих представителей95.
Логичным следствием ограничений стал отъезд множества проповедников за границу. В большом количестве Маньчжурию покидали и русские эмигранты. Молодежь уезжала в Шанхай, чтобы избежать призыва в специально формируемые японцами военные отряды из эмигрантов. Через Шанхай эмигранты уезжали в Америку, Канаду, Австралию, Европу. Вследствие ухудшавшихся отношений Японии и Великобритании многие английские подданные оказались под надзором японских служб, за миссионерами велась слежка, их действия жестко контролировались.
Исключение составляла католическая церковь, действовавшая при Маньчжоу-Диго достаточно свободно. Ватикан стал одним из первых европейских государств, признавших Маньчжурскую империю, и препятствий церкви японские власти не чинили. Все это говорит о прямой зависимости жизни христианских меньшинств от политической ситуации.
В 1940 году Министерство народного просвещения (благополучия) разработало трехлетний план по изучению деятельности христианских церквей96. Введение плана в жизнь было продиктовано необходимостью создать законы, оговаривающие аспекты религиозной деятельности христианских общин, а возможно и формальным разрешением на контроль за церквями со стороны японских властей.
В том же году произошло событие, открыто показавшее влияние Японии на Маньчжоу-Диго. Визит императора Пу И в Страну восходящего солнца широко освещался в прессе, а особое внимание в этих заметках было уделено синтоистскому ритуалу. Во время поездки Пу И посещал синтоистские святыни, молился в храмах и поклонялся Аматерасу. С этого момента синтоистский ритуал стал основой культа императора Маньчжоу-Диго97.
Столь важный для японцев церемониал было невозможно ввести на мелких предприятиях и в эмигрантских конторах, поэтому начали с образовательных учреждений. В учебных заведениях оборудовали отдельные комнаты или павильоны на школьных территориях, где устанавливались портреты императора. Это было частью японской политики тенноизма – воспитания молодого поколения в духе поклонения императору.
Поклонение императору и императорским регалиям составило основу государственного культа страны. Его начала доводились и до российской эмиграции: в частности, в 1941 году они были официально добавлены в обязательную школьную программу. Первой частью преподавания гражданской морали для русских школ было изучение религиозных вопросов. Их учащиеся проходили в первом классе. Программа включала в себя следующие пункты:
1. Значение религии в жизни человека и общества.
2. Ненормальность безбожия.
3. Учение Христианской Православной церкви как основа гражданской морали русских эмигрантов.
4. Свобода вероисповедания (в Российской империи, в Японии, Маньчжоу-Диго).
5. Уважение к религиозным верованиям других людей.
6. Общее представление о государственном культе в Японии98.
Следующие государственные изменения затронули религиозную собственность. С апреля 1941 года правительство издало ряд постановлений по провинциям Маньчжоу-Диго. В них вводилась обязательная регистрация храмовой собственности; правила запрещали продажу находящихся в церквях предметов (за исключением личных вещей священнослужителей). Ответственными за сохранность религиозной собственности становились священнослужители прихода99.
В 1942 году в Маньчжоу-Диго праздновался 10-летний юбилей основания государства. Особый акцент в торжественных церемониях делался на поклонение регалиям императора по примеру японских императорских ритуалов100.
Военные действия отодвинули вопросы религиозной политики государства на задний план. В августе 1945 года СССР вступил в войну с Японией. 9 августа советские войска пересекли границу и вошли в пределы Маньчжурской империи, поэтапно освобождая города и станции. Уже 20 августа войска заняли Харбин101, где проживала значительная часть российской эмиграции. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала, завершилась Вторая мировая война, а марионеточное государство Маньчжоу-Диго прекратило свое существование.
Глава II
Римско-католическая церковь в Маньчжурии
Формирование католического прихода на КВЖД
Римская католическая церковь активно действовала на территории Китая с XVI века: велась миссия, строились храмы и создавались церковно-административные структуры. В Маньчжурии первые католические миссионеры начали проповедь еще в XVII–XVIII веках. В рассматриваемый нами период на Северо-Востоке Китая активную деятельность вела французская католическая миссия.
Римско-католическая церковь, имеющая четкую структуру, сразу начала создавать организации, которые бы вели здесь деятельность. В 1838 году из Пекинской епископии был выделен Маньчжурский апостольский викариат Римско-католической церкви102, который распространял свою деятельность на огромную территорию, из‐за чего возникали некоторые трудности. Чтобы их устранить, в 1898 году было решено разделить викариат на две самостоятельные части: Апостольский викариат Южной Маньчжурии с центром в Мукдене и Апостольский викариат Северной Маньчжурии с кафедрой епископа в Гирине. Викариат Северной Маньчжурии включал Гиринскую и Цицикарскую провинции103.
Как раз в период формирования двух католических викариатов в Маньчжурию для строительства КВЖД прибывают специалисты из Российской империи. В их числе были представители различных национальностей, в том числе поляки, исповедовавшие католицизм.
На станциях железной дороги не было священнослужителей из Российской империи, поэтому верующие католики обращались к французской миссии, священники которой в обиходе использовали только французский и китайский языки. Это приводило к сложностям взаимодействия с ними.
Польская диаспора уже в первые годы достаточно быстро сформировалась в полосе отчуждения из специалистов, занимающихся постройкой железной дороги, служащих КВЖД, военных и их семей. В скором времени возникла необходимость в строительстве костела и приглашении священнослужителя для удовлетворения духовных нужд католической паствы.
Поляки активно выстраивали духовную жизнь колонии. Когда по КВЖД только начали запускать пробное движение поездов, а до официального открытия дороги было еще два года, католики собрали Церковный комитет и занялись вопросами строительства первого костела. Церковный комитет (Церковно-строительный комитет, позже – Приходской совет) явился одной из наиболее устойчивых религиозных организаций в Харбине. Созданный в 1901 году, он проработал в Китае более тридцати лет.
Католическое население проживало во многих населенных пунктах линии КВЖД, но наибольшее количество верующих было в Харбине. Было решено возвести костел именно там. В том же 1901 году после постоянных обращений Правление Общества КВЖД выделило для служб здание, принадлежавшее Пограничной страже и находившееся в харбинском районе Корпусный городок. В этом месте располагался военный гарнизон, и часть его служащих исповедовала католицизм. В том же году в Харбин был направлен военный капеллан Адам Шпиганович104. Он начал налаживать церковную жизнь в городе. Несмотря на активную работу на КВЖД, о. Шпиганович часто посещал центральные приходы на Дальнем Востоке – в Благовещенске и во Владивостоке. Постоянные службы ксендз также проводил в этих двух городах, поэтому в Харбине не задерживался. А. Шпиганович являлся представителем российских церковных структур, таким образом, харбинцы примкнули к дальневосточным католическим общинам, управление которыми осуществляла Могилевская архиепархия Римско-католической церкви. Пока все управление религиозной жизнью местных католиков осуществлялось не через зарегистрированный приход, а через священнослужителей.
Миряне Римско-католической церкви Российской империи проживали и на южно-маньчжурской линии Китайско-Восточной железной дороги. В 1903 году католики-миряне города Дальний Квантунской области подали ходатайство митрополиту римско-католических церквей в Санкт-Петербурге с просьбой обратиться в Общество КВЖД, чтобы им предоставили землю в центре города для строительства костела и дома священника. Чуть раньше, узнав об этом, епископ Русской православной церкви обратился к главному инженеру Дальнего Владимиру Васильевичу Сахарову с просьбой поддержать устройство в городе архиерейской кафедры. Одна из причин – будущее пребывание католического епископа в Дальнем и отсутствие при этом в городе православного клира105. Католики не успели построить костел в Дальнем из‐за начала Русско-японской войны.
Полученное в Харбине католиками здание начали перестраивать под религиозные нужды. К деревянному дому пристроили высокую башню-колокольню. Теперь церковь в Корпусном городке, застроенном небольшими деревянными домами и бараками, выделялась, ее было видно издалека. На башню водрузили католический крест.
Отдаленность районов города друг от друга не позволяла многим верующим посещать службы в костеле, да и желание иметь крупный каменный храм в итоге побудило Церковный комитет начать сбор средств среди католиков на строительство нового костела.
Уже через год после первого прошения в Правление Общества КВЖД обратился ксендз Шпиганович с просьбой предоставить участок земли ближе к центру города для постройки храма106. Его просьба была удовлетворена, и в 1904 году Земельный отдел КВЖД предоставил Римско-католическому приходу в долгосрочную аренду участок для церковных нужд. Выделенная территория внушительной площади находилась в районе Новый город по адресу: ул. Цицикарская, 146–150107. Предоставление обширного земельного участка в самом центре Харбина свидетельствует о том, что Римско-католическая церковь в полосе отчуждения КВЖД была в более свободном положении, чем в Российской империи, и о царившей в Харбине веротерпимости. Большую роль сыграло и назначение помощником управляющего КВЖД по гражданской части поляка Бронислава Людвиговича Громбчевского, который в дальнейшем поддерживал польские национальные сообщества и католическую церковь108.
Еще один факт, указывающий на терпимость и уважение к католической вере, был описан свидетелем событий, инженером и польским общественным деятелем Казимиром Гроховским. Он упоминал, что все строительные материалы, оставшиеся после сноса старой церкви в Корпусном городке, были пожертвованы Военно-инженерным советом КВЖД для постройки нового костела109. В то время города и станции железнодорожной магистрали остро нуждались в строительных материалах. Передача их католической общине была благотворительным актом.
А. Шпиганович в конце 1902 года покинул российский Дальний Восток, по распоряжению Могилевской архиепархии он был назначен куратом Омской римско-католической церкви110. Вновь харбинцы остались без священника и, соответственно, без местного управления. Для самоорганизации и официальных обращений весной 1903 года в Харбине был избран Распорядительный комитет во главе с председателем С. Маховским и секретарем В. Лазовским. Они подали прошение о создании в городе Римско-католического благотворительного общества и направлении в Харбин постоянного священника111. Для удовлетворения религиозных потребностей католиков из Владивостока приезжали священники владивостокского прихода: в 1903 году – ксендз Петр Силович112, в 1904 году – отец Станислав Лавринович113.
В 1904–1905 годах в полосе отчуждения КВЖД временно находились подразделения Маньчжурской армии – формирования вооруженных сил Российской империи. Среди военнослужащих были и католики, увеличилось и количество католического клира. 7 июня 1904 года была учреждена штатная должность римско-католического священника для войск Приамурского военного округа и Квантунской области и причетника при нем114. Чуть меньше, чем через полгода, 25 ноября 1904 года, на время военных действий были учреждены должности римско-католического священника с причетниками при Управлениях 1‐й и 2‐й стрелковых бригад115. Новые назначения не сыграли существенной роли в жизни харбинского католического прихода, так как в первую очередь обслуживали верующих военных частей.
При штабе действующей Маньчжурской армии с 1904 года духовные нужды удовлетворял священник Доминик Доминикович Микшис, назначенный капелланом116. В 1905–1906 годах Харбин служил пунктом эвакуации российских императорских войск. В это время количество католиков в городе увеличилось до 4 тысяч человек117. Хотя количество паствы выросло, период Русско-японской войны был тяжелым временем для Маньчжурии, поэтому сбор пожертвований на строительство костела Церковный комитет приостановил. Он был возобновлен, когда война закончилась, и в том же 1906 году полная сумма для строительства в 60 тысяч рублей была собрана118. Огромная сумма предрекала грандиозное строительство.
С 1901 по 1906 год в городе служил еще один военный капеллан – Доминик Пшилуский, 7 октября 1906 года он заложил краеугольный камень нового храма119. Это действо – почетная миссия для любого священнослужителя, нередко ее выполнял будущий настоятель храма, но о. Пшилуский был в Харбине временно.
В январе 1907 года капелланом Харбинского костела был назначен Антоний Мачук. Судя по всему, церковь в Корпусном городке в то время еще не была разобрана и продолжала работать. Приехав, Мачук стал вести основные службы в костеле, а Пшилуский возглавил Церковный комитет120.
Поляки, в то время бывшие подданными Российской империи, всегда подчеркивали свою национальную идентичность, поэтому в Харбине они организовывали встречи и мероприятия для польского населения Маньчжурии. Когда средства на постройку костела были израсходованы, группа поляков организовала благотворительный бал для сбора средств. Традиция устраивать Польские балы осталась и устоялась. В последующие годы их стало устраивать общество «Господа Польска» (Gospoda Polska), первое собрание которого состоялось 28 октября 1907 года с участием 36 человек121. Организация играла важную роль в жизни Полонии122.
Большинство верующих католического прихода были подданными Российской империи. Небольшое количество католиков составляли иностранцы.
В августе 1908 года в харбинский приход прибыла миссия редемптористов – католического ордена под названием Конгрегация Святейшего Искупителя в составе трех монахов: Владислава Бобосевича, Мартина Нуцковски и Юзефа Палевского. В саду около костела был поставлен черный крест с медной табличкой «В память о св. миссии в Харбине 24 августа 1908» со списком в 45 человек во главе с ксендзом А. Мачуком, которые участвовали в установке креста. Из Харбина монахи миссии направились во Владивосток123. Посещение польскими священниками города было частью их поездки по Сибири и Дальнему Востоку Российской империи. Разрешение представителям конгрегации на миссию было выдано 2 февраля 1908 года министром внутренних дел П. А. Столыпиным124. Поездка монахов стала возможной благодаря «Указу об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года. При этом миссионерская деятельность среди православных верующих до 1917 года в Российской империи по-прежнему была запрещена, а миссия редемптористов была направлена исключительно на католиков и имела целью укрепление их веры, благодаря чему конгрегация смогла получить разрешение на осуществление религиозной деятельности в Российской империи.
В 1908 году был официально организован Харбинский католический приход, он, как и другие дальневосточные приходы, структурно вошел в Могилевскую архиепархию Римско-католической церкви. Государство стремилось к тому, чтобы церкви входили в официально утвержденные структуры.


