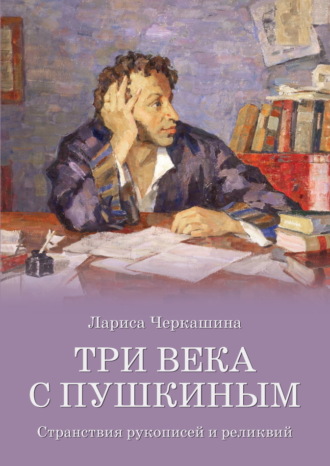
Лариса Черкашина
Три века с Пушкиным. Странствия рукописей и реликвий
На берегу Босфора
В Константинополе Гофмана встречает супруг Елены Александровны Николай фон Розенмайер, высокий худощавый господин, и галантно сопровождает гостя до снимаемой им квартиры.
Модест Людвигович поражён теснотой и бедностью жилища, сплошь завешанного сохнущими пеленками – в доме младенец. Удивляет его и то, что при столь стеснённых обстоятельствах супруги умудряются держать в крохотной квартирке ещё и огромного пса.
Модест Людвигович, стремясь произвести на хозяйку дома благоприятное впечатление, преподносит ей несколько своих книг, одну – с дарственной надписью: «Глубокоуважаемой внучке Пушкина Елене Александровне Пушкиной-Розенмайер от преданного автора».
Конечно, речь вскоре заходит о цели визита гостя из Парижа – покупке неизвестного дневника поэта. Но господин Розенмайер тотчас охладил пыл пушкиниста: обсуждать можно лишь продажу некоторых семейных реликвий, пояснил он, но отнюдь не пушкинского дневника.
Безусловно, Гофман переусердствовал в своём намерении заполучить заветный дневник, решив «перехватить» его и стать если не владельцем рукописи, то её «первооткрывателем». В любом случае он не избежал искушения «отставить» в сторону известного парижского собирателя и сделал то довольно нетактично, даже грубо.
Вывод сей легко напрашивается из впечатлений самой Елены Александровны, женщины прозорливой и явно обиженной поведением парижского визитёра.
Отголоски той давней беседы с русским гостем в письме Елены Александровны в Париж Онегину: «В Вашей книге «Неизданный Пушкин» г. Гофман сделал надпись: «Внучке Пушкина с глубоким уважением…» и вместе с тем взял на себя смелость сознаться, что письмо, которое он должен был мне отправить по Вашему поручению, перед своим отъездом из Парижа, он, г. Гофман, не отправил, сказав мне, что Вы одной ногой стоите в гробу и что с Вами считаться не приходится. О каком доверии может быть речь?! Я очень сожалею, что для ведения переговоров о передаче пушкинских реликвий, будущего достояния России, Вы остановили свой выбор на г. Гофмане (если дело было действительно так), который письменной доверенности Вашей или даже письма не предоставил. Поэтому к предложению г. Гофмана о продаже рукописи сей в собственность за 10 тысяч франков или о передаче на хранение я отнеслась так же, как отношусь к многочисленным предложениям иностранцев».
Всё-таки, думается, в Константинополе визитёру из Парижа был предъявлен дневник и другие рукописи поэта. Иначе вряд ли столь серьёзный пушкинист стал бы утверждать, что у госпожи фон Розенмайер хранится «самое большое в мире» собрание рукописей Пушкина и что реликвии, вывезенные ею из России, «ценнее Онегинского музея плюс весь Пушкинский Дом»!
Нет, Елена Александровна не может довериться человеку, столь дурно отозвавшемуся о благородном собирателе. Дневник, запечатлевший потаённые мысли поэта, – ключ ко многим тайнам, ведь это живой голос Пушкина!
То, что неизвестный пушкинский дневник был, сомнений нет. Следуя простой логике, коль известен дневник, на котором при посмертном обыске кабинета поэта на Мойке чья-то рука проставила номер два, значит, был и дневник под номером первым, и, быть может, третьим. Вопрос, что и по сей день не даёт покоя пушкинистам: имелся ли пушкинский дневник у самой Елены Александровны?
Зачем же решилась она сообщать о том столь известным в русском мире особам – Онегину, Гофману, Лифарю? Повысить интерес к собственной персоне? Но к чему? Она и так в глазах русских эмигрантов окружена магическим ореолом пушкинского имени. Ей, бедной беженке, потерявшей в одночасье всё, осталось лишь единственное богатство – семейные реликвии, вещественные доказательства бытия русского гения. Для турок они ровным счётом ничего не значили, как и само имя Пушкина, но вот для избранных русских, волею рока заброшенных в чужие края, рукописи поэта, любые мелочи, к которым прикасалась его рука, таили величайшую ценность.
Тем не менее Онегину через его посланника была передана фотокопия акварельного портрета Наталии Пушкиной. Правда, Елена Александровна ошибочно считала, что бабушку во всей её былой красе и в роскошном наряде: с чёрной бархатной шляпкой на голове, со спадающим, будто струящимся по каштановым локонам пышным страусовым пером, в тёмно-серой накидке, подбитой царственным горностаем и сброшенной с точённых будто из белоснежного мрамора плеч, – запечатлел великий Карл Брюллов.
В Петербурге, в фондах мемориальной квартиры поэта на Мойке, мне довелось видеть фотографию-открытку самой акварели, адресованную в Париж в марте 1923-го: «Глубокоуважаемому дорогому Александру Фёдоровичу Онегину». С пояснением «Уменьшенная копия с портрета бабушки работы Брюллова» и скромной, но такой значимой подписью: «От внучки». Этот же портрет, уже гравированный, был представлен ранее на страницах русского журнала в юбилейном, 1899 году, с пояснением, что оригинал (в действительности авторская копия портретиста Гау) хранится у Александра Александровича Пушкина, сына поэта.
В письме Елены Александровны – просьба к Онегину: одолжить ей двадцать тысяч франков, дабы избавить её и семью «от необходимости голодать или передать русские ценности иностранному музею».
Вот что удивительно, просьба была не первой, и коллекционер собирался перевести своей корреспондентке десять тысяч франков, но, получив от неё коротенькую депешу из двух слов: «Не присылайте», отказался от благого намерения.
Этот факт не вписывается в логику тех, кто безоговорочно причисляет внучку поэта к разряду авантюристок. Могла ли не принять столь спасительные для неё франки любительница лёгкой наживы?!
Елена Александровна торопит своих корреспондентов с решением, ведь ей предстоит, и очень скоро, дальний переезд – на южную оконечность Чёрного континента.
Блеск африканских алмазов
Константинополь стал лишь вехой в судьбе внучки поэта. Положение семейства, особенно с рождением дочери, становилось всё более шатким и трудным. И тогда у Елены Александровны возник план перебраться всем семейством в Южную Африку. Надо отдать должное её предприимчивости и умению налаживать родственные связи. Она вступила в переписку с леди Зией, своей двоюродной племянницей (вот тут и пригодилось прекрасное знание английского!), владелицей замка Лутон Ху в Англии.
В письмах в Париж Елена Александровна сообщает: она мыслит вскоре покинуть Турцию и перебраться в Южную Африку в имение английских родственников, где мужу по их же протекции предложена хорошая должность. Почему и желает перед отъездом, чтобы фамильные ценности попали в добрые и надёжные руки.
Отчего Еленой Александровной был сделан столь экзотический выбор? На юг Африканского континента – поистине к мысу Доброй Надежды?! (Любопытный штрих: на страницах «Капитанской дочки» есть о нём упоминание, – недоросль Петруша Гринёв приделывает хвост к воздушному змею, сотворённому из географической карты, именно к мысу Доброй Надежды!) Но что подвигло Елену Александровну отправиться в столь нелёгкий и опасный путь к берегам Атлантического океана, да ещё с крошечной дочкой на руках?
…Небольшой экскурс в историю, берущую своё начало с 1860-х, когда в Южной Африке вдруг засверкали магическим блеском найденные на берегу реки Оранжевой алмазы. Среди алмазной россыпи особо ярко блистали необычайно крупные камни, «наречёнными» романтическими именами: «Звезда Южной Африки», «Эврика». Возможно, те легендарные самоцветы и дали старт настоящей «алмазной лихорадке»!
Одним из тех, кто рискнул из Туманного Альбиона пуститься к берегам далёкой Оранжевой реки, был сэр Джулиус Уэрнер. Не только африканские алмазы заиграли для него волшебными искрами, но и блеск золотых слитков буквально ослепил удачливого предпринимателя. Джулиус Уэрнер быстро разбогател, став владельцем алмазных копей в Капской колонии да вдобавок и золотых приисков.
В том, недоброй памяти семнадцатом, когда Елена и Мария Александровна Пушкины бежали из революционной Москвы, в Лондоне сын алмазного магната баронет Харольд Огастус Уэрнер стоял перед церковным алтарём с очаровательной невестой – графиней Зией де Торби. После свадьбы король Великобритании Георг V «преподнёс» новобрачной своеобразный сюрприз – по указу Его Королевского Величества леди Зия приравнивалась в гражданских правах к дочерям английских пэров. О, то был поистине королевский подарок!
Зия, как её называли в семейном кругу, стала первенцем в семье великого князя Михаила Михайловича и графини Софи де Торби, внучки поэта. Ей нравилось, когда на русский манер её величали Анастасией Михайловной, и весьма гордилась своими великими прадедами: Александром Пушкиным и императором Николаем I.
Леди Зия большую часть своей жизни прожила в Лутон Ху: в замке её стараниями был создан единственный в своем роде музей русской культуры в Англии. Супруг леди Зии баронет Харолд Уэрнер наследовал от отца знаменитое поместье Лутон Ху в графстве Бэдфордшир, известное еще с XIII столетия. Но исторической славе замок обязан тем, что в XVI веке в нём жила мать королевы Елизаветы I Анна Болейн, вторая жена короля Генриха VIII, обвинённая в супружеской неверности и казнённая в Тауэре.
Многие годы Лутон Ху считался вторым по значимости частным музеем в Англии. (Ныне, к сожалению, он не принадлежит потомкам поэта.) Начало богатейшим собраниям замка – коллекциям старинного немецкого серебра, итальянской майолики, лиможским эмалям, бронзы эпохи Ренессанса, шедевров мировой живописи – было положено свёкром леди Зии Джулиусом Уэрнером. Хранилище дворца пополнилось и уникальной коллекцией украшений придворного ювелира Фаберже из России, приданым Анастасии Михайловны. В числе фамильных раритетов и драгоценная шкатулка, заказанная к трёхсотлетию Дома Романовых, с портретами-миниатюрами царской четы: Николая II и Александры Фёдоровны. Супруги Уэрнер приняли на хранение в дворцовый музей и завещанный им архив англичанина Гиббса, воспитателя цесаревича Алексея, принявшего мученическую смерть в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома. Вместе с августейшей семьёй…

Леди Зия, английская правнучка Пушкина.
Благодаря ей Елена Александровна и её семья оказались в Южной Африке
При Анастасии Михайловне появилась в замке и его святая святых – Пушкинская комната, вместившая в себя реликвии, связанные с именем поэта, и портретную галерею потомков Александра Сергеевича. В числе раритетов список пушкинской оды «Вольность», золотые медали, отлитые в честь юбилеев поэта в 1899-м и в 1937-м. Нашлось в ней место и необычному экспонату – полуметровой копии Медного всадника (из чистого серебра!), отлитой в Англии в середине XIX века.
Вся эта богатейшая коллекция полнилась и стараниями супруга леди Зии баронета Харольда Уэрнера, владевшего алмазными африканскими копями. По протекции баронета господину фон Розенмайеру, как дальнему родственнику, и предоставлена была должность управляющего имением в Мейзенбурге, близ Кейптауна.
И вот весной 1923-го супруги с дочкой Светланой сошли с корабельного трапа, впервые ступив на берег Атлантического океана.
Мир опустел… Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Итак, каким же предстал взору Елены Александровны неведомый африканский город Кейптаун?
Некогда посетивший Кейптаун писатель Иван Гончаров оставил его живописный облик: «Кейптаунская пристань, всегда кипящая народом и суетой… Тут толпится множество матросов разных наций, шкиперов и просто городских зевак… Весёлый, живой город…» Кейптаун напоминал писателю английский городок: «Те же узенькие, высокие английские дома, крытые аспидом и черепицей, в два, редкие в три этажа. Внизу – магазины».
Верно, таким увидела шумный и колоритный портовый город внучка поэта, первой из потомков Пушкина ступившая на землю нечуждого для неё Чёрного континента.
Под небом Африки моей…
Правда, русские бывали в этих местах и прежде, но после октябрьских потрясений в России в Южной Африке, и в особенности – Йоханнесбурге, сложилась настоящая русская колония: среди поселенцев числились известные учёные, артисты, художники. Пользовалась всеобщей любовью среди колонистов балерина Нина Рунич, в девичестве Павлищева, правнучка сестры Пушкина Ольги Сергеевны. Мужем танцовщицы был прославленный в те годы артист русского кинематографа Осип Рунич, а сама она снискала славу основательницы первой в Южной Африке школы русского балета. Правда, встречи родственниц не случилось: Нина Рунич оказалась на Чёрном континенте позднее, в тридцатых, когда Елена Александровна его уже покинула.
Поддерживали ли дружеские связи с соотечественниками супруги Розенмайер? Неизвестно. Да и пробыли они в Южной Африке недолго. Вероятно, в конце того же года супружеская чета вновь совершила долгое путешествие, на сей раз во Францию.
Как ни странно, но, вернувшись в Европу, Елена Розенмайер более не упоминала о фамильной ценности – хранившемся у неё дневнике поэта. Только ли совпадение? Или таинственный пушкинский дневник остался в Кейптауне?! Быть может, в Йоханнесбурге? Продан ли, утерян ли…
Обстоятельства, неведомые нам, вынудили супругов покинуть Африку. Смею предположить, что причиной столь скорого переезда стала прогрессирующая болезнь Николая Алексеевича: ему требовалось серьёзное лечение (старая рана на голове, полученная в боях за Крым, напоминала о себе болью и ужасными галлюцинациями), а жаркий климат усугублял страдания.
Итак, внучка поэта решительно перелистнула «африканскую страницу» своей биографии.
Парижская мечта
Всё семейство обосновалось в Париже, как казалось, прочно и надолго. Но его главе Николаю фон Розенмайеру год от года становилось всё хуже, и в 1933-м бывший ротмистр после долгого и безуспешного лечения умер в лечебнице для душевнобольных, что в пригороде Парижа. Елена Александровна в одночасье осталась вдовой с дочкой-подростком на руках.
Иван Бунин:
«Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца…»
На второй год вдовства внучку поэта посетил писатель-эмигрант Иван Лукаш. Автор исторических романов о Древней Руси (к слову, потомок донских казаков: его отец Созонт Лукаш изображён на знаменитом репинском полотне «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» в образе колоритного казака с перевязанной головой), он сотрудничал с эмигрантскими журналами «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение».

Вид Кейптауна, где довелось побывать внучке Пушкина. Старинная гравюра
Парижская квартира вдовы Розенмайер поразила писателя своей более чем скромной обстановкой, теснотой и убогостью. Но зато Иван Лукаш оставил живую картинку «сладкой» парижской жизни Елены Александровны, да и несколькими яркими строчками запечатлел портрет её дочери Светланы: «Триумфальная арка в сиреневых дымах как бы парит вдалеке. У этого невысокого старинного дома приятный дворовый подъезд с матовыми стеклами. Я спрашиваю консьержку о госпоже фон Розенмайер. «Да вот её дочь». Девочка лет одиннадцати, светловолосая, с синими смелыми глазами вошла в подъезд. «Вы к маме? Я вас провожу». Старая деревянная лестница винтом. Потёртый коврик… И вот мы на самом верху, в мансарде. Тёмная и очень тесная прихожая, как корабельная каюта, потолок сводом. За прихожей – маленькая келья с верхним окном. <…> В этой парижской мансарде меня встретила внучка Пушкина Елена Александровна… Её дочь Светлана забралась на кушетку и слушает нас во все уши, и смотрит во все глаза. Не так давно эта смелая девочка одна путешествовала к знакомым в Германию с документами на руках. <…> В моём путешествии к живым потомкам Пушкина есть странное и грустное утешение: может быть, оно в том, что и потомки поэта с нами в изгнании».
Иван Созонтович не преминул задать хозяйке вопрос о загадочном дневнике. Елена Александровна подробно поведала о нём: «С особым волнением и горечью я вспоминаю дневник деда. Этот дневник, хранившийся у отца, никогда не был опубликован. Перед войной Академия наук, занятая изданием Пушкина, просила у отца разрешение о выдаче дневника для опубликования. Отец отклонил тогда предложение: «Его ещё рано опубликовывать. И рано потому, что ещё живы дети тех, кого описывает дневник». <…> Я так и не читала его. Началась война, революция, события увели далеко из отеческого дома. <…> Дневник не был исписан до конца, и там было несколько пустых, слегка пожелтевших страниц…»
Наконец, спросив, где же ныне сам дневник, Иван Лукаш получил краткий и горький ответ: «Дневник пропал». Где и когда случилось то, Елена Александровна не уточнила, что позволило её собеседнику вынести горький вердикт: «Дневник Пушкина исчез бесследно, и внучка поэта совершенно не знает, где он теперь находится».
К парижскому периоду восходит тесное общение Елены Александровны с Сержем Лифарём, уникальнейшим человеком, танцовщиком, балетмейстером и настоящим полпредом русской культуры во Франции. По его просьбе внучка поэта вошла в Центральный Пушкинский комитет в Париже, занятый подготовкой юбилейной выставки.
На самой же исторической выставке «Пушкин и его эпоха», открывшейся в начале 1937-го, года печального юбилея, и ставшей ярчайшим событием культурной жизни русского зарубежья, Елена Александровна быть не смогла. Некоторые из принадлежавших ей прежде реликвий, приобретённые Лифарём, предстали на выставке ценнейшими экспонатами.

Александр Николаевич Пушкин, правнук поэта (в центре), Серж Лифарь (справа) с балеринами Гранд-Опера. Париж. 1937 г.
И вот что сам знаменитый танцовщик и не менее известный коллекционер вспоминал годы спустя: «В 1935 году я был поглощён организацией Пушкинской выставки, которая должна была состояться в Париже в столетнюю годовщину смерти поэта, и собирал повсюду экспонаты… Незадолго до этого я виделся с Е.А. Пушкиной-Розенмайер в Ницце, куда она приехала по возвращении из Африки. У неё оказалось несколько реликвий деда, в том числе его печатка, гусиное перо и ещё что-то. Всё это я у неё купил».
Следовательно, супруги Розенмайер, отплыв в Европу из Кейптауна, высадились во французском Марселе, оттуда добрались до Ниццы и через какое-то время вновь очутились в Париже.
Серж Лифарь страстно желал приобрести заветный пушкинский дневник, не жалея ни денег, ни времени на его поиски. Да и точка отсчёта, когда содержимое дневника могло быть предано гласности, неумолимо близилась, проступали абрисы того заветного года.
В статье «Ещё о смерти Пушкина» её автор Модест Гофман заверял читателей: «В 1937 году будет опубликован не изданный ещё большой дневник Пушкина (в 1100 страниц). Несомненно, что он прольёт свет на историю дуэли и драму жизни Пушкина, подготовившую эту дуэль; сколько мы знаем, однако, этот дневник ещё больше реабилитирует честь его жены, чем все те материалы, которые до сих пор были в распоряжении пушкинистов».
Удивительно: скептически настроенные государственные умы в советской России вдруг «одумались», резко включившись в поиск зарубежной Пушкинианы. Магическим для чиновников стало имя эмигрантки Елены фон Розенмайер: для будущей сенсации требовалось согласие владелицы дневника поэта. Последовали поручения Совета Народных Комиссаров своим представителям за рубежом отследить судьбу архивов, находящихся в ведении потомков Пушкина, и прежде всего его внучки Елены. Денег для приобретения раритетов не жалеть!
Но вот на след «неуловимой» Елены напасть не удавалось. Хотя Гофман извещал, что в июле 1929-го внучка поэта находилась в Париже: «Недавно Дягилев вёл с ней переговоры о приобретении пушкинской печати…» Но вот куда более важные строки его письма для продолжения поиска: «Дневник существует действительно, но заключает в себе не 1100 страниц, а около 150 страниц и находится в месте более близком к Ленинграду, чем к Парижу».
Упоминание о Северной столице не случайно, ведь одно время Елена Александровна утверждала, что дневник по её просьбе укрыт в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), где и находится в надёжных руках. Но и в Гельсингфорсе его не удалось отыскать.
Считается, что «Дело о розыске и покупке рукописей Пушкина за границей» прекратили в 1930 году. Однако найденное в архиве письмо Владимира Бонч-Бруевича (замечу, известного партийного деятеля, ближайшего помощника и секретаря Ленина, а позднее – первого директора Государственного литературного музея в Москве) к Елене фон Розенмайер доказывает, что надежда найти пушкинский дневник не оставляла советских деятелей и позже. После лирических изъяснений в любви к Пушкину он прямо приступает к делу: «Прошу Вас быть совершенно откровенной и написать совершенно просто: желаете ли Вы в настоящее время передать эти рукописи… если Вы пожелаете передать эти рукописи, то будьте добры точно определить ту сумму денег в долларах, которую Вы хотите за них получить и которая будет Вам выплачена совершенно немедленно, по Вашему согласию, при передаче рукописей». Письмо датировано маем 1932 года.
Увы, позднее прозрение… Неизвестно, получила ли то послание Елена Александровна, а если да, то каков был её ответ? Во всяком случае, к тому времени дневником она не владела.







