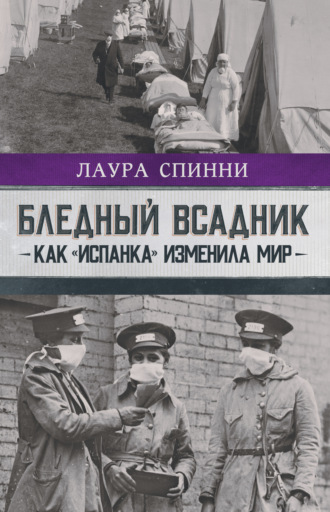
Лаура Спинни
Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
Глава 2
Как тать в ночи
Большинство заболевших «испанкой» переносили ее как обычный грипп, с типичными для сезонного гриппа симптомами – воспалением горла, головной болью, высокой температурой. И весной 1918 года большинство людей переносило грипп без серьезных осложнений и благополучно выздоравливало. До тяжелых случаев дело доходило редко, а до летальных исходов – лишь в единичных прискорбных случаях, в которых не усматривали ничего неожиданного. Ничего не поделаешь, как говорится, грипп каждую зиму уносит толику жизней.
А вот в августе грипп вернулся сразу же в непривычно свирепом обличье. Теперь, начавшись как обычное простудное заболевание, он быстро переходил во что-нибудь более мерзопакостное. На второй волне и сам грипп протекал тяжелее обычного, и пневмонией стал осложняться с пугающей регулярностью. Собственно, большинство летальных исходов были непосредственно вызваны именно бактериальной пневмонией. У пациентов вскоре развивалась острая дыхательная недостаточность, на щеках проступали пятна цвета красного дерева, а через считаные часы нездоровый лиловый румянец распространялся на все лицо до самых ушей, да такой, как писал один американский военврач, что уже и не отличить, кто из них белый, а кто цветной[62].
Врачи окрестили этот жуткий эффект «гелиотропным цианозом»[63]. Они уподоблялись виноторговцам из Бордо в детальных описаниях тончайших оттенков цвета, полагая, что малейшее изменение тона румянца на щеках и окраски кожных покровов пациента информативно в плане прогноза. Это мог быть, к примеру, «густонасыщенный сумеречный оттенок красновато-сливового», согласно описанию одного из врачей. Преобладание красного в гамме румянца вселяло надежду на благополучный исход. Если же к красному были «примешаны цвета гелиотропа, лаванды или мальвы», перспективы считались мрачными[64].
Синюшность переходила в почернение. Первыми чернели пальцы рук и ног, включая ногти, затем ладони и стопы, затем некроз поднимался вверх по конечностям и в конце концов проникал в брюшную полость и грудную клетку. То есть, пока ты еще был в сознании, можно было наблюдать за тем, как смерть начинает тебя пожирать, начиная с кончиков пальцев и подбираясь все ближе к жизненно важным органам. Когда 8 ноября 1918 года Блез Сандрар наведался в дом 202 по бульвару Сен-Жермен, консьержка сообщила ему, что мсье и мадам Аполлинер оба заболели. Сандрар взбежал вверх по лестнице и принялся стучать в дверь. Кто-то его впустил, и он застал следующую картину: «Аполлинер лежал на спине, – вспоминает он. – И он был весь совершенно черный»[65]. На следующий день Аполлинера не стало. После начала некротического почернения смерть наступала через считанные дни или даже часы. Горе близких усугублялось чудовищным видом скончавшихся: черные как уголь лицо и руки плюс уродливо вздувшаяся грудь. «Тело разлагалось настолько быстро, что грудь буквально на глазах вспучивалась, да так сильно, что нам пришлось дважды бедного брата чуть ли не утрамбовывать в гроб, – писал один из переживших ту эпидемию. – И крышку гроба после этого мы вынуждены были сразу же опустить и заколотить»[66]. Внутри грудной клетки патологоанатомы при вскрытии находили красные, взбухшие легкие, насыщенные вытекшей из полопавшихся сосудов кровью, с водянистой розовой пеной на поверхности. Жертвы гриппа фактически захлебывались собственной кровью, в результате чего, собственно, и наступала смерть.
У беременных грипп пугающе часто приводил к выкидышам и преждевременным родам. У множества людей внезапно начинала хлестать носом и горлом кровь. Уже упоминавшийся крупнейший трансатлантический лайнер того времени с дивно созвучным ему именем «Левиафан» вышел из порта Хобокен в Нью-Джерси и взял курс на Францию 29 сентября 1918 года. На борту было около 9000 военнослужащих, не считая судовой команды и обслуги. Болезнь вспыхнула сразу же после выхода в открытый океан, и через неделю «Левиафан» ошвартовался в Бресте с 2000 больных и почти сотней трупов на борту. Сцены в пути перед глазами пассажиров разворачивались воистину дантовские. Проходы между двухъярусными койками в отсеках для перевозки личного состава были настолько узкими, что медперсонал, ухаживавший за больными, невольно оставлял за собою кровавые следы по всему трюму. Верхние койки больным не годились, и людей в полубессознательном состоянии приходилось рядами укладывать прямо на палубах, которые вскоре сделались скользкими от крови и рвоты. «В ночное время рассмотреть обстановку, чтобы хоть как-то сориентироваться, было невозможно, и для тех, кто днем толком ничего разглядеть не успел или не мог, это был просто кромешный ад, – вспоминал американский солдат, переживший эту трансатлантическую переброску, – и их стоны и крики ужаса приводили в еще большее смятение тех, кто тщетно взывал о медицинской помощи»[67].
Патологические изменения происходили на уровне всего человеческого организма в целом. Говорят, что от больных «испанкой» исходил резкий запах, «похожий на запах прелой соломы»[68]. «В жизни ни до, ни после этого ничего подобного не нюхала, – вспоминала одна медсестра. – Это был ужас, потому что в этом вирусе был какой-то яд». У одних больных выпадали зубы, у других – волосы. У некоторых вовсе не проявлялось никаких признаков заражения, пока они вдруг не валились замертво. Многие впадали в горячечный бред. «Они приходили в крайнее психическое и двигательное возбуждение, – писал один берлинский врач. – Приходилось привязывать их к койкам, чтобы не дать им расшибиться об окружающие предметы, мечась в горячке». Другой врач, парижский, заметил, что делирий, похоже, проявляется, вопреки всякой логике, не на пике горячки, а после перелома, на спаде температуры тела. Он подробно описал, как его пациенты места себе не находили от ощущения близящегося конца света, и множество эпизодов их буйных истерик со слезами[69]. Сообщалось и о самоубийствах пациентов, выбрасывавшихся из окон больничных палат. Причем погибали при столь трагических обстоятельствах не только взрослые, но и дети, просто про взрослых писали, что они «выбросились», а про детей – что «выпали» из окна. В Швейцарии, в окрестностях Лугано, адвокат по фамилии Лаги перерезал себе горло опасной бритвой, а один лондонский клерк вместо того, чтобы выйти на работу Сити, в один прекрасный день сел на поезд до Уэймута, что на южном побережье Англии, и по прибытии туда утопился в Ла-Манше[70].
Люди жаловались на головокружение, бессонницу, потерю слуха и/или обоняния, помутнение зрения. Грипп действительно способен вызывать воспаление зрительного нерва и, как следствие, нарушения зрительного восприятия, включая потерю способности различать цвета. Многие пациенты поражались, придя в сознание, каким застиранным до полной блеклости предстает мир после того, как кризис миновал, – будто все эти цианозные лица высосали из него все краски. «Из шезлонга подле окна само по себе было меланхоличным чудом видеть косые лучи бесцветного солнца на бледно-сером снегу под тусклым небом, из которого будто стравили до дна всю голубизну», – писала пережившая грипп американка Кэтрин Энн Портер в повести «Бледный конь, бледный всадник»[71][72].
Самым устрашающим, однако, было то, как он приходил по твою душу – молча, без малейшего предупреждения или хотя бы намека. Для гриппа вообще характерно, что самая его заразная фаза приходится на начальный и практически бессимптомный период развития заболевания. Как минимум целые сутки, а то и дольше люди выглядят и чувствуют себя вполне здоровыми, в то время как на самом деле они уже инфицированы и опасны для окружающих как разносчики инфекции. В 1918 же году, услышав, как раскашлялся, или увидев, как слег у тебя на глазах кто-то из соседей или родственников, можно было считать уже заболевшим и себя самого, без особого риска ошибиться в прогнозе. Цитируя одного бомбейского чиновника от здравоохранения, испанский грипп подкрадывался «как тать в ночи, исподтишка, и сразу же подло обрушивался на тебя всей своей мощью»[73].
ГРИПП ВО ВРЕМЯ ЛЮБВИ
Пятнадцатилетний Педру Нава прибыл в Рио-де-Жанейро в августе 1918 года и поселился у своего «дяди» Антониу Эннеса де Соузы на элитной окраине, по соседству с живописным горнолесным парком «Тижука» на севере города. Слово «дядя» закавычено по той причине, что на самом деле Эннес де Соуза приходился Педру лишь двоюродным дядей по отцовской линии и в последний раз они виделись в 1911 году на похоронах Жозе Навы, отца мальчика, после чего оказавшаяся крайне стесненной в средствах семья вынуждена была покинуть город. Однако когда Педру Наве пришла пора серьезно взяться за учебу, мать отправила его обратно в Рио под опеку «дяди Антониу».
Педру был сразу же и решительно очарован своими элегантными и жизнерадостными родственниками – и «дядей» Антониу, и «тетей» Эуженией, но более всего – гостившей у нее родной племянницей по имени Наир Кардозо Салес Родригес. И полвека спустя, описывая блистательную Наир в своих мемуарах, Педру Нава сравнивал ее не с кем-то, а с Венерой Милосской за «гладкое белое лицо, алые лепестки губ, дивные волосы». А еще он с отчетливой ясностью запомнил и описал тот вечер, когда все они узнали об эпидемии болезни, известной в тех краях как espanhola[74][75].
Как-то раз в конце сентября чета Эннес де Соуза за поздним обедом у себя в особняке как обычно развлекалась чтением газет вслух. Среди прочего сообщалось о 156 умерших на борту парохода «Ла-Плата», отплывшего из Рио в Европу, между прочим, с делегацией бразильских медиков в числе пассажиров. Болезнь разразилась через два дня после захода в Дакар на западном побережье Африки. Но Африка-то далеко, а корабль плывет еще дальше, в Европу. Чего им, спрашивается, тревожиться? О чем тем вечером не сообщили бразильские газеты (возможно, из-за цензуры, а возможно, просто сочтя эту новость малоинтересной), так это о том, что в Рио на днях объявится британский почтовый пароход «Демерара», также заходивший в Дакар по пути в Бразилию и уже останавливавшийся в Ресифи на севере Бразилии 16 сентября с больными гриппом на борту.
После обеда Нава отправился посидеть у открытого окна с тетушкой, к которой исправно и угодливо подлизывался. Присоединилась к ним и Наир, и пока девушка задумчиво любовалась тропическим вечером, Педру любовался девушкой. Когда часы пробили полночь, они закрыли окно и покинули обеденную залу, а затем, уже пожелав всем спокойной ночи, Наир вдруг остановилась и обеспокоенно спросила, не тревожно ли им из-за этой «испанской болезни». Более полувека спустя Нава описал эту сцену так: «Мы так и застыли втроем посереди коридора с венецианскими зеркалами по обеим стенам, в которых вереницы наших бесчисленных отражений терялись в бесконечности двух бездонных туннелей». Эужения велела племяннице выбросить всякие глупости из головы, поскольку лично им ничто не угрожает, и они расстались до утра.
«Демерара» вошла в порт Рио в первых числах октября совершенно беспрепятственно. Ввиду такой беспечности столичных[76] властей не исключено, что это был не первый инфицированный корабль, бросивший якорь в заливе Гуанабара, но именно с его прибытием началось распространение гриппа по беднейшим bairros (районам) города. В субботу 12 октября в излюбленном кофейными баронами и прочими воротилами Clube dos Diàrios[77] состоялся пышный бал. К началу следующей же недели многие из богатых гостей поскидывали роскошную обувь и слегли в своих роскошных спальнях. Заболело и большинство студентов. Придя в понедельник в колледж, Нава обнаружил, что из 46 его однокурсников до аудитории добрались лишь одиннадцать, и это оказался последний день занятий перед объявленными в конце учебного дня бессрочными каникулами до особого распоряжения. Поскольку ему сказали идти прямиком домой и без надобности по улицам не шляться, Педру Нава вернулся к дяде на ул. Майора Авила, 16 и обнаружил, что трое из домочадцев за его недолгое отсутствие успели заболеть. Город в целом оказался совершенно не готов к всплеску массовой заболеваемости. Врачи трудились как проклятые, а по возвращении домой после адской переработки обнаруживали у своего порога еще целые очереди ожидающих их пациентов. «Агенор Порто мне потом рассказывал, что для того, чтобы хоть немного вздремнуть, ему приходилось устраиваться в своем авто, прикрывшись пустыми мешками». Вскоре в городе стала ощущаться нехватка продуктов, а молоко и яйца вовсе исчезли. Cariocas – так в Бразилии называют жителей Рио – запаниковали, а газеты запестрели сообщениями об ухудшающейся день ото дня обстановке на городских улицах. «Пошли разговоры о погромах продуктовых лавок и складов, кафе и баров озверевшими толпами еще или уже способных ходить кашляющих и ополоумевших от болезни и голода людей, <…> а также и о том, что запасов деликатесов наподобие плодов хлебного дерева, фаршированных цыпленком, для избранных и богатых из привилегированных классов и государственных чиновников имеется в достатке, а перевозятся они под вооруженной охраной прямо на глазах у исходящего голодной слюной населения».
Голод властно вторгся и в особняк на ул. Майора Авила. «Я более чем близко познакомился с эти мутным товарищем, – писал Нава. – После дня на похлебке из рыбьей требухи и следующего дня на одном пиве, вине и крепком спиртном с отстоем оливкового масла на закуску я все-таки в состоянии вспомнить и утро третьего дня. Ни позавтракать, ни похмелиться нечем». Семидесятиоднолетний Антониу Эннес де Соуза в тот день водрузил на голову широкополую шляпу, прихватил с собою трость для самообороны и плетеную корзину для добычи и в сопровождении своего выздоравливающего родного племянника Эрнесто – «бледного и с неухоженной бородой» – отправился на поиски пропитания для вконец оголодавшей семьи. «Много часов спустя они вернулись. Эрнесто нес полный мешок круглых галет, кусок ветчины и жестянку икры, а дядя – целых десять банок сгущенки». Этот бесценный запас тетушка Эужения растягивала как умела, выдавая причитающийся членам семьи рацион строго отмеренными мелкими порциями, «будто дом на Майора Авила был плотом „Медузы «с картины Жерико[78]».
Тут в доме объявился нежданный гость – дед Педру Нава по линии матери. В Рио он оказался проездом из соседнего штата Минас-Жерайс, куда эпидемия, по его словам, не добралась. И вот ведь приспичило старику полюбоваться на местные красоты и для этого непременно посетить Praia Vermelha и Pão de Açucar[79]. Внук свой долг перед отцом матери исполнил, а взойдя с дедом на вершину, так и застыл от изумления при виде того, что на том берегу пролива, на просторной и всегда многолюдной Praça da República[80] в самом центре города пусто как на Луне. «Не скажу, что больше я подобного в жизни не видал, – пишет Нава. – Но в следующий раз мне суждено было увидеть там подобное безлюдье лишь через 46 лет, и случилось это 1 апреля 1964 года, ну так ведь это же было в разгар революции[81]».
Он окинул взглядом небосвод и увидел над головой пепельно-серый и пористый, как пемза, низкий купол, сквозь который грязно-желтым пятном просвечивало солнце. «При всей его тусклости солнечный свет вызывал резь в глазах, будто засыпая их песком. От одного вида света делалось непереносимо больно. И воздух, который мы вдыхали, был весь какой-то иссушенный». В животе бурлило, голова раскалывалась. Задремав в трамвае по дороге домой, Педру Нава увидел в кошмарном сне, как обрушивается в колодец какого-то подъезда вместе с лестничным пролетом, по которому куда-то поднимался… Очнулся он весь в ознобе и с горящим лбом. Дед благополучно доставил своего внука-экскурсовода домой, и там Педру окончательно погрузился в объятия горячки. «Я так и продолжал безостановочно метаться и скатываться по каким-то лестницам… И пошли бессчетные дни галлюцинаций, жара, пота и жидкого поноса».
Рио-де-Жанейро в то время был весьма бурливой столицей молодой республики. Военный переворот 1889 года положил конец монархическому правлению императора Педру II, которому не помогла сохранить власть даже отмена рабства годом ранее, а вкупе все это повлекло массовый приток обретших долгожданную свободу темнокожих и «мулатов» в столицу. Беднейшие из недавних рабов оседали в cortiços (трущобах) в центре города. Дословно cortiços переводится с португальского как «пчелиные ульи», и к тому же в этих лепящихся друг к другу сотах зачастую не было ни водоснабжения, ни канализации, ни вентиляции. При этом условия проживания там были все-таки лучше, чем в subúrbios[82], скоплениях сооруженных из подручного хлама лачуг на пустырях по окраинам города, просто cortiços сильнее бросались в глаза. Белые cariocas, принадлежащие к среднему классу, смотрели на их обитателей как на паразитов на теле родного города. Алуизиу Азеведу в уже упоминавшемся романе «Трущобы» (O Cortiço) вполне адекватно передал чувство страха, которое внушали коренным горожанам эти разрастающиеся подобно раковой опухоли «ульи»:
«Два года день за днем разрасталась и крепла трущоба, впитывая все новых и новых пришлых людей. И живущему по соседству Миранде с каждым днем делалось все тревожнее и ужаснее от этого по-звериному плодящегося мира, от неотвратимо разрастающихся под его окнами безжалостных джунглей, толстыми и изворотливыми, как змеи, корнями подрывающимися подо все, грозящими вот-вот прорасти из-под земли прямо у него во дворе и обрушить его дом, разворотив фундамент».
Придя в 1902 году к власти, президент Франсишку де Паула Родригеш Алвеш[83] начал реализацию амбициозной программы обновления города с целью превращения Рио в образцово-показательный центр современной республиканской цивилизации. В его версии cidade maravilhosa[84] не было места cortiços, этим рассадникам болезней с их биологически неполноценным населением, обреченным на существование «в порочном цикле нездорового питания и инфекций»[85]. Трущобы снесли, а их обитателей выставили за черту города. На месте шестисот снесенных домов проложили помпезный проспект Риу-Бранку[86], так что побывавшая в Рио в 1920 году американская путешественница и писательница Харриет Чалмерс Адамс справедливо отметила: «С тех пор в этой части города сделалось попрохладнее благодаря тому, что этот широкий проспект продувается морскими бризами насквозь – от берега до берега»[87]. А вот былая легкость смешения людей различных классов в поисках удовольствий, особенно *в музыке и танцах, некогда характерная для Рио, улетучилась. Не осталось в городе места, где бедные и богатые cariocas не были бы разделены проливом, который не переплыть.
В том же 1904 году по инициативе президента страны в Рио-де-Жанейро началась активная борьба с инфекционными заболеваниями, возглавлял которую лично министр здравоохранения доктор Освалду Крус[88], организовавший принудительную поголовную вакцинацию населения от оспы. В ту пору подавляющее большинство бразильцев понятия не имели о микробной теории заболеваний. Для многих к тому же прививки, да еще принудительные, стали первым опытом вмешательства государства в их частную жизнь ради охраны здоровья общества, были восприняты как нечто из ряда вон выходящее и вызвали яростное сопротивление со стороны бедноты. В Рио cariocas попросту устроили бунт, названный историками «Вакцинным», который сопровождался достаточно массовыми столкновениями между народом и властями. Впрочем, это было прежде всего проявлением классовой борьбы, разгоревшейся в те годы не только в Рио и не только в Бразилии, а в данном случае камнем преткновения являлся вопрос о том, кому принадлежит и кому должен служить город – бразильским народным массам или европеизированной элите[89].
Лишь лет через десять бразильцы в своем большинстве смирились с необходимостью всеобщей вакцинации, но народная ненависть к Освалду Крусу пережила его самого, и, хотя бывший министр здравоохранения умер за год до нависшей над городом в 1918 году угрозы «испанки», любые противоэпидемические меры властей воспринимались народом через призму застарелой ненависти нему и созданной им системе.
12 октября, в тот самый день, когда гриппом заразилась изысканная публика на балу в Clube dos Diàrios, сатирическая газета Careta («Рожа») выразила опасения, как бы власти не раздули из мухи слона и не воспользовались этой банальной limpa-velhos[90] как предлогом для установления «научно обоснованной диктатуры» и попрания народных прав и свобод. Глава управления здравоохранения штата Карлос Зайдль на карикатурах и в фельетонах изображался дрожащим от страха бюрократом-перестраховщиком, а политики открыто объявляли «полной чушью» его «болтовню о микробах, якобы разносящих болезнь по воздуху», и настаивали на том, «что пыль из Дакара досюда никаким ветром не донесет». А когда эпидемия таки грянула, то ее тут же окрестили «сглазом Зайдля». К концу октября заболело полмиллиона cariocas, т. е. больше половины городского населения Рио того времени, однако в прессе все еще звучали авторитетные заявления, что гриппа в городе нет, есть массовая весенняя простуда[91].
К тому времени в городе скопилось так много непогребенных человеческих трупов, что люди стали опасаться, как бы они сами по себе не стали причиной мора из-за разложения и антисанитарии. «На моей улице, – вспоминал один carioca, – из окна в обе стороны был виден целый океан трупов. Поначалу люди выкладывали тела умерших на подоконниках или балконах ногами на улицу, чтобы коммунальные службы их забрали и вывезли. Но людей у коммунальщиков не хватало, и работали эти службы крайне медленно, и в скором времени воздух совсем испортился: трупы стали вздуваться, гнить и смердеть. Тогда многие и начали просто вышвыривать трупы из окон на улицы»[92].
«Старший констебль был на грани отчаяния, когда на выручку пришел Жаманта[93], всем известный заводила карнавалов, предложивший оригинальное решение», – писал Нава. Днем он представал Жозе Луишем Кордейру, журналистом влиятельной газеты Correio de Manhã («Утренняя почта»), в целом неодобрительно высказывавшейся о карнавальных традициях Рио. Но по ночам он оказывался совсем другим – практичным шутником, «который научился водить трамвай и стал брать у города вагоны напрокат на ночь просто для того, чтобы собственного удовольствия ради рассекать на них по улицам ночного города, когда ему, как и положено богемной сове, не спится».
И тут, пока его газете приходилось раз за разом извиняться перед читателями за выходящие с опозданием из-за болезни сотрудников номера, Жаманта оседлал своего любимого конька. «Он выпросил у начальства грузовой трамвай с двумя прицепными пассажирскими вагонами второго класса и стал прочесывать город с севера на юг, очищая его от трупов». По пустынным улицам болеющего ночного города Жаманта свозил свой страшный урожай мертвецов к расположенному на севере Рио, в районе Кажу,2 кладбищу Св. Франциска Ксаверия, разгружал свой зловещий состав, «напоминающий то ли поезд-призрак, то ли корабль Дракулы», возвращался в город за новым грузом – и так до утра, «иногда и достаточно позднего, когда солнце уже давно взошло».
Набат с колокольни церкви при кладбище в Кажу разносился далеко окрест и звучал безостановочно, сводя с ума жителей близлежащих районов. Могильщики рыли свежие могилы круглосуточно и все равно не успевали хоронить все прибывающих мертвецов; у ворот кладбища скопились тысячи тел, ожидающих погребения. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, ямы под могилы стали рыть недостаточно глубокие. «Иногда траншеи оказывались настолько мелкими, что, идя по кладбищу, можно было наткнуться на диковинными цветами прорастающие сквозь землю мыски стоп покойников», – вспоминал писатель Нельсон Родригес[94][95].
Чтобы хоть как-то восполнить нехватку рабочих рук администрация кладбищ попыталась было привлечь непрофессиональных копателей на сдельной основе, но люди шли туда неохотно, а с работой справлялись плохо. «Тогда туда бросили заключенных, – писал Нава, – и начался полный ад». Заключенных подрядили расчищать завалы трупов. И пошли слухи о массово отрубаемых у покойников пальцах с кольцами и вырываемых с мясом из ушей серьгах с драгоценными камнями; о том, что там насилуют юных девушек, занимаются некрофилией и вообще хоронят людей заживо. В госпиталях же, рассказывали, безнадежным больным на ночь глядя подносили «чай с отравой», чтобы побыстрее освободить койки для вновь прибывших и сократить мучительный путь бедолаг к «святой обители», как гробовщики иносказательно и лицемерно именовали погосты.
Была ли в этих слухах доля правды, или все они были порождением некой коллективной галлюцинации обезумевших от страха горожан? Задаваясь этим вопросом, Нава в итоге приходит к заключению, что ответ на него не так уж и важен, поскольку результат в обоих случаях был бы идентичным. Ужас обуял население и преобразил город, который стал похож на постапокалиптическое видение. Футболисты проводили матчи при пустых трибунах. Проспект Риу-Бранку полностью обезлюдел и сделался похожим на фантасмагорический вымерший город. Всяческая вечерняя и ночная жизнь в городе прекратилась. Днем же, если кто живой и прошмыгивал по улицам, то был похож на спасающееся бегством привидение. Редкие прохожие там вообще передвигались теперь исключительно перебежками – призрачными черными силуэтами с искаженными мунковским криком серыми лицами на фоне кроваво-красного неба. «Как-то так случилось, что воспоминания о тех страшных днях у всех, кому их удалось пережить, остались совершенно бесцветные», – писал Нава, и сам, вероятно, испытавший странное искажение зрительного восприятия цветов, о котором сообщали многие пациенты. «Ни следа не осталось ни от утренних зорь, ни от оттенков небесной синевы, ни от сумеречных пастельных полутонов, ни от лунного серебра. Все выглядело так, будто было засыпано серым пеплом или залеплено бурой тухлятиной, и в людской памяти не отложилось ничего, кроме нескончаемого дождя и похоронных процессий, грязи и слизи, спертого дыхания и мучительного кашля».
Когда ему наконец удалось впервые подняться с постели после болезни, исхудавший и слабый Педру Нава едва нашел в себе силы добраться до кресла у окна, выходящего на улицу: «Всего за час подо мною по улице Барона де Мескита на выход из города проследовали три малочисленные похоронные процессии бледных как тени и едва переставляющих ноги людей». Затем служанка сказала ему, что юная Наир, предмет его поклонения, также серьезно больна. Из последних сил взобравшись по лестнице в мансарду, Педру приоткрыл дверь, ведущую в спальню девушки, украдкой заглянул туда – и остолбенел от увиденного: потухший взгляд, изможденное лицо, осунувшееся тело… Ни следа неземной красоты цветущей юности. Посеревшие губы растрескались, волосы истончились и выцвели, синяки под глазами, выступившие скулы, ввалившиеся виски. «Она преобразилась до неузнаваемости, будто стала другим человеком под действием злых чар овладевшего ею демона», – с болью вспоминал он.
Наир скончалась в ночь на 1 ноября, в канун Дня всех святых, когда эпидемия уже пошла на спад и жизнь в Рио стала понемногу возвращаться к норме. Похоронили ее сразу же. Весь день шел страшный ливень. Катафалк с белыми занавесями, едва отъехав от особняка в сопровождении Эрнесто, растворился «будто рыба в аквариуме». Вечером, вернувшись с кладбища, Эрнесто рассказал остальным членам семьи, что гроб с телом Наир буквально утопили в купели могилы, до краев заполненной дождевой водой. Через пять лет, придя на кладбище за костями Наир, тетушка Эужения обнаружила вместо костей «не разложившуюся и не иссушенную, а лишь немного потемневшую мумию». Служитель кладбища ей объяснил, что такое бывает, когда тело оказывается буквально законсервированным в полной сырости без доступа анаэробных бактерий.
Наир пришлось перезахоронить на сухом участке, и лишь через два года после этого ее чистые кости были перенесены в семейный склеп. Нава же прочно запечатлел ее в своей памяти в образе «божественной невесты из мрамора» в белом подвенечном платье, лежащей в белом-белом гробу в анфиладах венецианских зеркал на улице Майора Авила, 16, уносящих ее ad infinitum[96], с печальной улыбкой на чуть приоткрытых губах. «Отныне она навеки принадлежала прошлому и была столь же далекой и столь же необратимо ушедшей, как Пунические войны, древнеегипетские династии, царь Минос или даже первобытные невежественные дикари». И спустя полвека с лишним вышедший на пенсию врач еще раз пожелал возлюбленной своей юности на прощание: «Милая девочка, покойся с миром».


