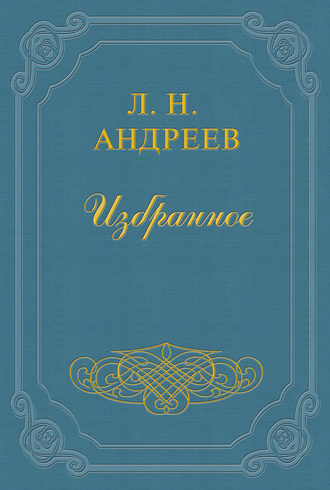
Леонид Андреев
Сашка Жегулев
16. Пробуждение
Бывают такие полосы в жизни, когда от сильного горя и усталости либо от странности положения здоровый и умный человек как бы теряет сознание. Для всех окружающих, да и для себя, он все тот же: так же и ест, и пьет, и разговаривает, и делает свое дело, плачет или смеется, – ничего особенного и не заметишь: а внутри-то, в разуме и совести своей, он ничего не помнит, ничего не сознает, как бы совершенно отсутствует. Так бывает со многими вдовами, с женихами на свадьбе, с полководцами во время отступления; так же, пожалуй, бывает с плохими, останавливающимися часами, которые некоторое время надо подталкивать рукою, чтобы шли. Очень часто из этого опасного состояния возвращаются к жизни, даже не заметив его и не узнав, как не узнается опасность за спиною; но бывает, что и умирают, почти неслышно для себя переходят в последний мрак.
Как раз в таком состоянии был Жегулев после смерти Колесникова. Умер Колесников второго августа, и с этого дня почти целый месяц Саша жил и двигался в бездумной пустоте, во все стороны одинаково податливой и ровной, как море, покрытое первым гладким ледком. На вид он был даже оживленнее прежнего и деятельность проявлял неутомимую; жег, что показывали жечь, шел, куда звали, убивал, на кого намекали, – ветром двигался по уезду, словно и не слыша жалоб измученной, усталой шайки. Но если кто-нибудь решительно заявлял, что надо передохнуть, Жегулев отдавал приказание об отдыхе, и дня три-четыре послушно отдыхал и сам. Андрей Иваныч, матрос, почувствовавший смерть Колесникова как смертельный удар всему ихнему делу, недоумевал и смущался, не зная, как понимать этого Жегулева; и то в радости и в вере приободрялся, а то начинал беспокоиться положительно до ужаса.
Пугало его то, что Жегулев совсем как будто не видел и не понимал перемен в окружающем; а перемены были так широки и ощутительны, что и ненаблюдательный Андрей Иваныч не мог не заметить их и не встревожиться. В чем дело, трудно было сказать, но словно переменился сам воздух, которым дышит грудь.
Все еще много народу было в шайке, но с каждым днем кто-нибудь отпадал, не всегда заменяясь новым: только по прошествии времени ясно виделась убыль; и одни уходили к Соловью, другие же просто отваливались, расходились по домам, в город, Бог весть куда – были и нет. Те бесчисленные Гнедые, которые в свое счастливое время путали всякое соображение, каждодневно сокращались в числе, уже значились по пальцам наперечет, – в окружающем безразличии или даже вражде, как в холодной воде масло, резко очерчивались контуры шайки, ее истинный объем. Случаев прямой вражды было еще мало, но словно ослепла и оглохла деревня: никто не слышит, никто не видит, как ни кричи. При редких встречах «бывшие» не отвертываются, но беседуют нехотя и нехотя подшучивают: «Вот вас скоро морозцем-то прихватит!» – а разумей эти слова так: «А к нам в тепло и не суйся, не зовем». И все чаще вместо привычного наименования лесных братьев бросают резкое и укорительное: разбойники. «Эй, матрос, долго еще разбойничать будете? Бабы жалуются, что собак по ночам тревожите».
Пока все это только шутки, но порой за ними уже видится злобно оскаленное мертвецкое лицо; и одному в деревню, пожалуй, лучше не показываться: пошел Жучок один, а его избили, придрались, будто он клеть взломать хотел. Насилу ушел коротким шагом бродяга. И лавочник, все тот же Идол Иваныч, шайке Соловья отпускает товар даже в кредит, чуть ли не по книжке, а Жегулеву каждый раз грозит доносом и, кажется, доносит.
– Не выдержу, один пойду, у Александра Иваныча не спрошусь, а уж распорю ему живот! – темнея от гнева, говорит Андрей Иваныч.
– Распори, матрос, распори! Я тебе подмогу, за ноги держать буду! – иронически поддакивает Еремей: он еще держится в шайке, но порою невыносим становится своей злобной ко всему иронией и грубыми плевками. Плюет направо и налево.
– Ну и скот же ты, Ерема! – горько упрекает его матрос. – Для кого стараемся, а?
Еремей с трудом складывает в смешливую гримасу свое дубовое лицо, подмигивает выразительно и хлопает его по колену.
– Андрюша! Матросик! Пинжачок ты мой хорошенький! А с кем ты намедни солому приминал, жмыхи выдавливал, а? Ну-ка, матрос, кайся!
Андрей Иваныч краснеет: по слабости человеческой он завел было чувствительный роман с солдаткой, со вдовой, но раз подсмотрели их и не дают проходу насмешками. Не знают, что со вдовой они больше плакали, чем целовались, – и отбили дорогу, ожесточение и горечь заронили в скромное, чистое, без ропота одинокое сердце. До того дошло с насмешками, что позвал его как-то к себе сам Жегулев и, стесняясь в словах, попросил не ходить на деревню.
– Так точно, я не хожу. Еще чего не прикажете?
– Я ничего не приказываю, Андрей Иваныч… Голубчик мой, вспомните Василь Васильича… да я сам…
Словно колокол церковный прозвучал в отдалении и стих. Опустил голову и матрос, слышит в тишине, как побаливает на ноге гниющая ранка, и беспокоится: не доходит ли тяжкий запах до Жегулева? И хочется ему не то чтобы умереть, а – не быть. Не быть.
И от осеннего ли похолодевшего воздуха и темных осенних ночей, от вражды ли мужичьей и насмешек грубых – начинают ему мерещиться волчьи острые морды.
Правда, появились уже и волки в окрестных лесах, изредка и воют тихонько, словно подучиваясь к зимнему настоящему вою, изредка и скотинку потаскивают, но людей не трогают, – однако боится их матрос, как никогда ничего не боялся. Свой страх он скрывает от всех, но уже новыми глазами смотрит в темноту леса, боится его не только ночью, но и днем далеко отходить от стана не решается. И ночью, заслышав издали тихий неуверенный вой, холодеет он от смертельной тоски: что-то созвучное своей доле слышит он в одиноком, злом и скорбном голосе лесного, несчастного, всеми ненавидимого зверя. А утром, осторожно справившись о волках, удивляется, что никто этого воя и не слыхал.
Все резче с каждым часом намечались зловещие перемены, но, как в мороке живущий, ничего не видел и не понимал Жегулев. Как море в отлив, отходил неслышно народ, оставляя на песке легкие отбросы да крохи своей жизни, и уже зияла кругом молчаливая пустота, – а он все еще слепо жил в отошедшем шуме и движении валов. До дна опустошенный, отдавший все, что призван был отдать, выпитый до капли, как бокал с драгоценнейшим вином, – прозрачно светлел он среди беспорядка пиршественного стола и все еще ждал жаждущих уст, когда уже к новым пирам и горько-радостным отравам разошлись и званые и незваные. С жестокостью того, кто бессмертен и не чтит маленьких жизней, которыми насыщается, с божественной справедливостью безликого покидал его народ и устремлялся к новым судьбам и новые призывал жертвы, – новые возжигал огни на невидимых алтарях своих.
Даже того как будто не замечал Жегулев, что подозрительно участились встречи и перестрелки со стражниками и солдатами, и всегда была в этих встречах неожиданность, намек на засаду. Действительно выдавал ли их кто, или естественно лишились они той незримой защиты, что давал народ, – но временами положение становилось угрожающим. Мало-помалу, сами того не замечая, перешли они из нападающих в бегущие и все еще не понимали, что это идет смертный конец, и все еще искали оправдания: осень идет, дороги трудны, войск прибавили, – но завтра будет по-старому, по-хорошему. Укрепляла еще в надеждах шайка Васьки Щеголя, по-прежнему многолюдная, разгульная и удачливая: не понимали, что от других корней питается кривое дерево, поганый сук, облепленный вороньем.
Но только мертвый не просыпается, а и заживо похороненному дается одна минуточка для сознания, – наступил час горького пробуждения и для Сашки Жегулева. Произошло это в первых числах сентября при разгроме одной усадьбы, на границе уезда, вдали от прежнего, уже покинутого становища, – уже с неделю, ограниченные числом, жили братья в потайном убежище за Желтухинским болотом.
Все шло по обычаю, только с большею против обычного торопливостью, гамом и даже междоусобными драками – озлобленно тащили что попало, незнакомые незнакомой деревни мужики ругались и спорили. Вдруг неизвестно откуда пробежала страшная весть, что скачут стражники, – в паническом бегстве, ломая телеги, валясь в канавы, оравой понеслись назад. Напрасно кричал матрос, знавший доподлинно, что стражники далеко, грозил даже оружием: большинство разбежалось, в переполохе чуть не до смерти придавив слабосильного, но по-прежнему яростного и верного Федота. Не ушли только те, у кого не было телег, да выли две бабы, у которых угнали лошадей, пока не цыкнул на них свирепый Еремей. Но все же осталось в разгромленной усадьбе человек до тридцати, и было среди них наполовину пьяного народа; а вскоре вернулся кое-кто с пустыми телегами, опомнились дорогой и постыдились возвращаться порожняком.
– Время, Александр Иваныч! – сказал матрос, глядя на свои часики.
И Жегулев привычно крикнул:
– Запаливай, ребята!
Но уже трудился Еремей, раздувая подтопку, на самый лоб вздергивая брови и круглясь красными от огня, надутыми щеками; и вскоре со всех концов запылала несчастная усадьба, и осветилась осенняя мглистая ночь, красными дымами поползли угрюмые тучи, верст на десять озаряя окрестность. В ту ночь был первый ранний заморозок, и всюду, куда пал иней, – на огорожу, на доску, забытую среди помертвевшей садовой травы, на крышу дальнего сарая – лег нежный розовый отсвет, словно сами светились припущенные снегом предметы. Галдели и ругались не успевшие нагрузиться, опоздавшие мужики.
Уже уходили лесные братья, когда возле огромного хлебного скирда, подобно часовне возвышавшегося над притоптанным жнивьем, в теневой стороне его заметили несколько словно притаившихся мужиков, точно игравших со спичками. Вспыхнет и погаснет, не отойдя от коробки. Озабоченный голос Еремея говорил:
– Эх, куда сернички способней: тухнет, сволочь!
Саша в изумлении и гневе остановился:
– Андрей Иваныч, что это? Неужели хлеб хотят?
– Видно, что так. Не трогайте их, Александр Иваныч.
– Помутился разум человеческий, – сказал Жучок, прячась на случай за матроса.
Слепень, кривой, глупо захохотал и сплюнул:
– Мужики!
Но захохотали и некоторые из мужиков, то ли конфузливо, то ли равнодушно отходя от скирда и смешиваясь с братьями; и только Еремей оглянулся на мгновение, словно ляскнул по-волчьи, и зажег новую спичку, наскоро бросив:
– Ставь-ка от ветру, Егорка.
Жегулев шагнул вперед и, коснувшись согнутой трудолюбиво спины, крикнул:
– Ты что делаешь, Еремей! Хлеб нельзя жечь, ты с ума спятил! Отдай другим, если самому… голодным! Тебе говорю!
Еремей не быстро оглянулся и коротко сказал:
– Не твой хлеб. Отойди!
Короток был и взгляд запавших голодных глаз, короток был и ответ, – но столько было в нем страшной правды, столько злобы, голода ненасытимого, тысячелетних слез, что молча отступил Саша Жегулев. И бессознательным движением прикрыл рукою глаза – страшно показалось видеть, как загорится хлеб. А там, либо не поняв, либо понимая слишком хорошо, смеялись громко.
Жарко затрещало, и свет проник между пальцами – загорелся огромный скирд; смолкли голоса, отодвигаясь – притихли. И в затишье человеческих голосов необыкновенный, поразительный в своей необычности плач вернул зрение Саше, как слепому от рождения. Сидел Еремей на земле, смотрел, не мигая, в красную гущу огня и плакал, повторяя все одни и те же слова:
– Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!
Опустились головы и глаза – то ли в тяжком раздумье и своих слезах, то ли из желания не стыдить плачущего взглядами. Накалились соломинки и млели, как проволока светящаяся, плавилось золото хлебное и превращалось в тлен.
Покачивался Еремей и, как тогда Елена Петровна с губернатором, плакал в святой откровенности горя и повторял бесконечно:
– Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко…
Всею душою вздохнул Саша и, подойдя к Еремею, нежно коснулся его рукою, нежно, как матери бы своей, сказал вздохами:
– Еремеюшка… родной мой… Не плачь, Еремеюшка!
Точно не расслыхал Еремей всех слов, но замолк, хлипнул носом и, обернувшись, с ядовитой улыбкой четко и раздельно сказал следующее:
– Подлизываешься, барин?.. Много денег награбил, разбойник?.. Много христианских душ загубил, злодей непрощеный?
…Так проснулся Саша. И ночью в своей холодной землянке, зверином нечистом логове лежал он, дрожа от холода, и думал кровавыми мыслями о непонятности страшной судьбы своей. Нужна ли была его жертва? Кому во благо отдал он всю чистоту свою, радости юношеских лет, жизнь матери, всю свою бессмертную душу? Неужели все это – драгоценное и единственное, что есть у человека, – так никому и не нужно, так никому и не пригодилось? Брошено в яму вместе с мусором нечистым, сгибло втуне, обернулось волею Неведомого в бесплодное зло и бесцельные страдания! Нет и не будет ему прощения ни в нынешнем дне, ни в сонме веков грядущих. Кто может и смеет простить его за убийство, за пролитую кровь? Господи! И Ты не можешь простить, иначе не всех Ты любишь равно. Кто же?
– Мать?
Кто-то в темноте копошится в ногах, чем-то тяжелым и теплым прикрывает озябшее тело: кто это?
– Спите, Александр Иваныч, спите, это я ноги вам прикрыл, холодно. Спите!
– Спасибо, Андрюша. Спасибо. Спасибо, голубчик.
В первый раз с тех пор, как вышел из дому, – заплакал Сашка Жегулев.
17. Любовь и смерть
Великий покой – удел мертвых и неимеющих надежд. Великий и страшный покой ощутил в душе Погодин, когда отошли вместе с темнотою ночи первые бурные часы.
Хорошо или плохо то, что он сделал и чего не мог не сделать, нужно оно людям или нет – оно сделано, оно свершилось и стоит сзади него во всей грозной неприкосновенности совершившегося: не изменить в нем ни единой черточки, ни одного слова не выкинуть, ни одной мысли не изменить. Примет жизнь его жертву или с гневом отвергнет ее как дар жестокий и ужасный; простит его Всезнающий или, осудив, подвергнет карам, силу которых знает только Он один; была ли добровольной жертва или, как агнец обреченный, чужой волею приведен он на заклание, – все сделано, все совершилось, все осталось позади, и ни единого ничьей силою не вынуть камня. А впереди – только смерть.
Это была безнадежность, и ее великий, покорный и страшный покой ощутил Саша Погодин. Ощутив же, признал себя свободным от всяких уз, как перед лицом неминуемой смерти свободен больной, когда ушли уже все доктора и убраны склянки с ненужными лекарствами, и заглушенный плач доносится из-за стены. С того самого дня, как было возвращено Жене Эгмонт нераспечатанным ее письмо и дан был неподозревавшей матери последний прощальный поцелуй, Саша как бы закрыл душу для всех образов прошлого, монашески отрекся от любви и близких. «Если я буду любить и тосковать о любимых, то не всю душу принес я сюда и не чиста моя чистота», – думал Погодин с пугливой совестливостью аскета; и даже в самые горькие минуты, когда мучительно просило сердце любви и отдыха хотя бы краткого, крепко держал себя в добровольном плену мыслей – твердая воля была у юноши. Теперь же, когда вместе со смертью пришла свобода от уз, – с горькой и пламенной страстностью отдался он грезам, в самой безнадежности любви черпая для нее нужное и последнее оправдание. «Теперь я могу думать, о чем хочу», – строго решил он, глядя прямо в глаза своей совести, – и думал.
Как раз в эту пору, предвещая близкий конец, усилились преследования. Словно чья-то огромная лапа, не торопясь и даже поигрывая, ползала по уезду вдогонку за лесными братьями, шарила многими пальцами, неотвратимо проникала в глубину лесов, в темень оврагов, заброшенных клетей, нетопленых холодных бань. Куда только не прятались братья! И отовсюду приходилось убегать; и снова прятаться, и снова бежать дальше. Все короче становились опасные переходы, и все на меньшем месте, незаметно сужая круг, кружилась шайка Жегулева, гонимая страхом, часто даже призрачным. Едва ли кто из них боялся смерти, скорее жаждали ее, но в самом обиходе прятанья и постоянного бегства было нечто устрашающее, ослаблявшее волю и мужество. Тревожным стал слух, вообще склонный обманывать, и зрение обострилось болезненно, и сон сделался пуглив и чуток, как у зверя, и движения порывисты – круты повороты, внезапны остановки, коротки и бессловесны вскрики.
Осень была, в общем, погожая, а им казалось, что царит непрестанный холод и ненастье: при дожде, без огня, прели в сырости, утомлялись мокротою, дышали паром; не было дождя – от страха не разводили огня и осеннюю долгую ночь дрожали в ознобе. Днем еще согревало солнце, имевшее достаточно тепла, и те, кто мирно проезжал по дорогам, думали: какая теплынь, совсем лето! – а с вечера начиналось мучение, не известное ни тем, кто, проехав сколько надо, добрался до теплого жилья, ни зверю, защищенному природой. Скудно кормились, и не будь неизменно и загадочно верного, кашляющего Федота, – пожалуй, и умерли бы с голода или начали, как волки, потаскивать мужицкую скотину.
К ощущениям холода, пустоты и постоянного ровного страха свелась жизнь шайки, и с каждым днем таяла она в огне страданий: кто бежал к богатому и сильному, знающемуся с полицией Соловью, кто уходил в деревню, в город, неизвестно куда. И Сашка Жегулев, все еще оставаясь знаменем и волею шайки, внешне связанный с нею узами верности и братства, дрожа ее холодом и страхом, – внутренне так далеко отошел от нее, как в ту пору, когда сидел он в тихой гимназической комнатке своей. И чем несноснее становились страдания тела, чем изнеможеннее страдальческий вид, способный потрясти до слез и нечувствительного человека, тем жарче пламенел огонь мечтаний безнадежных, бесплотных грез: светился в огромных очах, согревал прозрачную бледность лица и всей его юношеской фигуре давал ту нежность и мягкую воздушность, какой художники наделяют своих мучеников и святых.
Старательно и добросовестно вслушиваясь, весьма плохо слышал он голоса окружающего мира и с радостью понимал только одно: конец приближается, смерть идет большими и звонкими шагами, весь золотистый лес осени звенит ее призывными голосами. Радовался же Сашка Жегулев потому, что имел свой план, некую блаженную мечту, скудную, как сама безнадежность, радостную, как сон: в тот день, когда не останется сомнений в близости смерти и у самого уха прозвучит ее зов – пойти в город и проститься со своими.
В те долгие ночи, когда все дрожали в мучительном ознобе, он подробно и строго обдумывал план: конечно, ни в дом он не войдет, ни на глаза он не покажется, но, подкравшись к самым окнам, в темноте осеннего вечера, увидит мать и Линочку и будет смотреть на них до тех пор, пока не лягут спать и не потушат огонь. Очень возможно, что в тот вечер будет у них в гостях и Женя Эгмонт… но здесь думать становилось страшно. Страшно было и то, что занавески на окнах могут быть опущены… но неужели не догадается мать, не почувствует за окнами его сыновних глаз, не услышит биения его сердца? Оно и сейчас так бьется, что слышно, кажется, по ту сторону земли!
Поймет. Догадается. Откроет!
Тихо и красиво умирает лес. То, что вчера еще было зеленым, сегодня от краю золотится, желтеет все прозрачнее и легче; то, что было золотым вчера, сегодня густо багровеет; все так же как будто много листьев, но уже шуршит под ногою, и лесные дали прозрачно видятся; и громко стучит дятел, далеко, за версту слышен его рабочий дробный постук. Вокруг милые и печальные люди смотрят на него с тоскою и жаждой: но чем их напоить? Отдал бы, пожалуй, и мечту свою, но не нужна им чужая, далекая, даже обидная мечта. Даже стыдно временами: какой он богач. Смутно проходит перед глазами побледневшее лицо матроса, словно издали слышится его спокойный, ласково-покорный голос.
– У вас жива мать, Андрей Иваныч?
– Не могу знать.
Странный и словно укоризненный ответ, но дольше спрашивать нельзя… или можно, но не хочется?
– Плохи наши дела, Андрей Иваныч.
– Так точно, Александр Ивавыч, плохи. Одежи теплой нет, вот главное.
– Да, одежи нет. А что же Федот обещал полушубков достать?
– Да не дают мужики, говорят, какие были, все Соловьев забрал. Врут.
– Надо достать.
– Да надо уж.
Молчат и думают свое, и Саша убежден, что матрос думает о полушубках, как их достать.
– Что это вы последнее время хромаете, Андрей Иваныч? Ушиблись?
Матрос как будто конфузится и отвечает виновато:
– Разве хромаю? Не замечаю что-то, показалось, верно.
– Да нет же, заметно.
– А может быть, и ушибся, да ничего не почувствовал… надо будет ногу посмотреть. Ничего не прикажете, Александр Иваныч?
И в тот день матрос действительно не хромал, очевидно, ошибся Погодин. Многое замечалось одними глазами, и во многом ошибались глаза, и слабой болью отвечало на чужую боль в мечте живущее сердце. Все дальше уходила жизнь, и открывался молодой душе чудесный мир любви, божественно-чистой и прекрасной, какой не знают живые в надеждах люди. Как ненужная, отпадала грубость и суета житейских отношений, томительность пустых и усталых дней, досадная и злая сытость тела, когда по-прежнему голодна душа – очищенная безнадежностью, обретала любовь те свои таинственнейшие пути, где святостью и бессмертием становится она. Почти не имела образа Женя Эгмонт: никогда в грезах непрестанных не видел ее лица, ни улыбки, ни даже глаз; разве только услышит шелест платья, мелькнет на мгновенье узкая рука, что-то теплое и душистое пройдет мимо в слабом озарении света и тепла, коснется еле слышно… Но, не видя образа, сквозь тленные его черты прозревал он великое и таинственное, что есть настоящая бессмертная Женя, ее любовь и вечная красота, в мире бестелесном обручался с нею, как с невестою, – и сама вечность в ее заколдованном круге была тяжким кольцом обручения.
Но странно: не имела образа и мать, не имела живого образа и Линочка – всю знает, всю чувствует, всю держит в сердце, а увидеть ничего не может… зачем большое менять на маленькое, что имеют все? Так в тихом шелесте платьев, почему-то черных и шелестящих, жили призрачной и бессмертной жизнью три женщины, касались еле слышно, проходили мимо в озарении света и душистого тепла, любили, прощали, жалели – три женщины: мать – сестра – невеста.
Но вот уже и над ухом прозвучал призывный голос смерти: ушел из шайки на свободу Андрей Иваныч, матрос.
С вечера он был где-то тут же и, как всегда, делал какое-то свое дело; оставалось их теперь всего четверо помимо Жегулева – матрос, Кузьма Жучок, Федот и невыносимо глупый и скучный одноглазый Слепень. Потом развел костер матрос – уже и бояться перестали! – и шутливо сказал Саше:
– Теперь в лесу волки, а огня они боятся.
– В этих местах волков нет, – поправил Федот, – я знаю.
– Ты свое знаешь, а мы свое знаем: хворосту жалко?
– Жги, мне-то что. Теплей спать будет. Ложился бы и ты с нами, Александр Иваныч, а то сыро в землянке, захвораешь.
Но Саша лег в землянке: мешали люди тихой мечте, а в землянке было немо и одиноко, как в гробу. Спал крепко – вместе с безнадежностью пришел и крепкий сон, ярко продолжавший дневную мечту; и ничего не слыхал, а утром спохватились – Андрея Иваныча нет. На месте и балалайка его с раскрашенной декой, и платяная щеточка, и все его маленькое имущество, а самого нет.
Долго не знали, что думать и что предпринять, тем более что и артельные деньги, оставшиеся пустяки, Андрей Иваныч унес с собой, как и маузер. Терялись в беспокойных догадках. Глупый Слепень захмыкал и ляпнул:
– К Соловью убег.
– Ну и дурак! – сказал Федот и нерешительно высказал догадку: – Не объявляться ли пошел?
И странно было, что Саша также ничего не мог придумать: точно совсем не знал человека и того, на что он способен – одно только ясно: к Соловью уйти не мог. Выждали до полудня, а потом, томясь бездеятельностью, отправились на поиски, бестолково бродили вокруг стана и выкрикали:
– Андрюша! Матрос!
Саша безнадежно бродил среди деревьев, смотря вниз, точно грибы искал; и по завету матроса о мертвом теле, которое всегда обнаружится, нашел-таки Андрея Иваныча. Боясь ли волков, или желание убить себя пришло внезапно и неотвратимо и не позволило далеко уйти – матрос застрелился в десятке саженей от костра: странно, как не слыхали выстрела. Лежал он на спине, ногами к открытому месту, голову слегка запрятав в кусты: будто, желая покрепче уснуть, прятался от солнца; отвел Саша ветку с поредевшим желтым листом и увидел, что матрос смотрит остекленело, а рот черен и залит кровью; тут же и браунинг – почему-то предпочел браунинг. И еще заметил Саша, что на щеке возле уха и в тех местах подбородка, которых не залила кровь, проступила щетинка бороды: никогда не видел на живом.
– Так-то, Андрей Иваныч! Ловко! – сказал Жегулев, по звуку голоса совсем спокойно, и опустил ветку: качаясь, смахнула она мертвый лист на плечо матроса.
Откуда-то подошли те трое и из-за спины смотрели.
– Надо портмонет достать, – сказал Федот и укоризненно обратился к Слепню: – А ты говоришь – к Соловью! К этому Соловью и ты скоро пойдешь.
– Ты-то раньше пойдешь, у тебя из горла кровь идет.
– Ну и дурак! – удивился Жучок и сплюнул.
– Ничего он не понимает. Помоги, Жучок!
Пока ворочали и обыскивали мертвеца, Жегулев находился тут же, удивляясь, что не чувствует ни особенной жалости, ни тоски: немного страшно и донельзя убедительно, но неожиданного и необыкновенного ничего – так и нужно. Главное же, что завтра он пойдет в город.
Но что-то досадное шевелилось в мыслях и не давалось сознанию – иное, чем жалость, иное, чем собственная смерть, иное, чем та страшная ночь в лесу, когда умер Колесников… Но что? И только увидев матросов вывернутый карман, прежде чужой и скрытый, а теперь ничей, этот странный маленький мешочек, свисший у бока, – вдруг понял, чего не понимал: он, Жегулев, совершенно не знает этого мертвого человека, словно только сегодня он приехал в этом своем неразгаданно-мертвецком виде, с открытыми глазами и черным ртом. Потом, припоминая дальше, вдруг слабо ужаснулся, горько усмехнулся над человеческой слепотою своей: ведь он и совсем не знает Андрея Иваныча, матроса, никогда и не видал его! Было возле что-то услужливое, благородное, деликатное, говорило какие-то слова, которые все позабыты, укрывало, когда холодно, поддерживало под руку, когда слабо, – а теперь взяло и застрелилось, самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись, без слов ушло из жизни. Старается Жегулев вспомнить прежнее его живое лицо – и не может; даже то, что он брился аккуратно, вспоминается формально, недоверчиво: точно и всегда была теперешняя неаккуратная щетинка. И все горше становится сознанию: оказывается, он даже фамилии его не знает, никогда ни о чем не расспрашивал – был твердо убежден, что знает все! А знает только то, что видит сейчас: мало.
Уже зарыли мертвеца, когда удалось Жегулеву вызвать из памяти нечто до боли и слез живое: лицо и взгляд Андрея Иваныча, когда играл он плясовую, тайно улыбающийся и степенный, как жених на смотринах. И вспомнилась тогдашняя весенняя луна с ее надземным покоем, ровный шум ручья, бегущего к далекому морю, готовый к пляске Колесников в его тогдашней дикой и сумасшедшей красоте. Потом разговор в шалашике, когда голоса звучали так близко и в маленькую щель покрышки блестел серебряный, ослепительно яркий диск. Умер Петруша. Умер Колесников, а сейчас зарыт и матрос.
– Помнишь рябинушку, Федот?.. – спросил Саша, умиленно улыбаясь; и с такой же умиленной улыбкой на своих синих тонких губах, тесно облипавших желтые большие зубы, ответил Федот:
– Как же, Александр Иваныч, помню.
«Ну и страшно же на свете жить!» – думает Кузьма Жучок, глядя в беспросветно-темные, огромные, страдальческие глаза Жегулева и не в силах, по скромному уму своему, связать с ним воедино улыбку бледных уст. Забеспокоился и одноглазый Слепень, но, не умея словами даже близко подойти к своему чувству, сказал угрюмо:
– А балалайку матросову я себе возьму.
– Вот-то дурак! – удивился Федот и перестал улыбаться.
Поговорив с Федотом о возможностях, Жегулев решил на следующий же день идти в город и проститься: дальше не хочет ждать смерть и требует поспешности.







