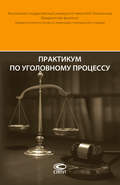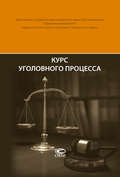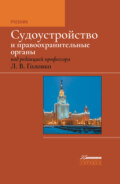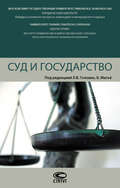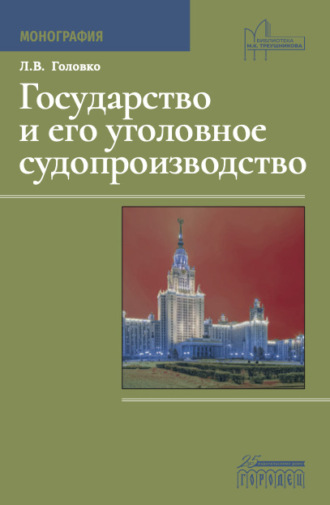
Леонид Головко
Государство и его уголовное судопроизводство
§ 3. Внешнее вмешательство в нормативную организацию государством уголовного судопроизводства под эгидой глобализации и защиты прав человека
Государство, разумеется, по-прежнему остается единственным легитимным источником уголовного судопроизводства. Несомненное размывание государственного уголовно-процессуального суверенитета, которое мы наблюдаем в связи с определенными тенденциями по его самопроизвольному ограничению (в Европейском Союзе) или столь же самопроизвольному расширению (через принцип универсальной юрисдикции и экстерриториальный доступ к информации, прежде всего цифровой) некоторыми государствами, ничего в этом плане не меняет. Если в случае с европейскими ордерами на арест и на производство следственных действий, знаменующими собой максимальное на данный момент в формальном плане самоограничение государственного суверенитета в уголовно-процессуальной сфере, попытки поиска нового источника легитимности еще просматриваются (Европейский Союз), хотя последний все равно опирается на действия и решения составляющих его государств, что мы видим на многочисленных примерах, в том числе британском, то применительно к универсальной юрисдикции, экстерриториальному доступу к цифровой и нецифровой информации и т. п. таких источников нет и быть не может в принципе: все универсальные и экстерриториальные, цифровые и «нецифровые» действия по самопроизвольному расширению своего государственного суверенитета основываются исключительно на национальном праве того или иного государства и ни на чем больше, прекрасной иллюстрацией чему является новейшее уголовно-процессуальное законодательство США (Cloud Act и др.). Ясно, что никакая цифровизация, будучи движением сугубо технологическим и подчас идеологическим, сама по себе новых источников легитимности в правовом смысле создать не в состоянии. Можно сколь уголовно экзальтированно восклицать о цифровой среде, блокчейне, криптовалютах, децентрализации, исчезновении национальных государств или, допустим, «сокращении государственного контроля», «снижении уровня ответственности государств» и т. п., однако все эти восклицания в конечном итоге завершаются маловразумительными утверждениями об одновременной редукции «возможности правовой защиты (например, судебной) правоотношений»112, т. е. по сути отрицанием права вообще. Иначе говоря, подобные векторы анализа не только не приводят к обнаружению каких-либо внятных альтернативных источников легитимности, но оканчиваются констатацией фактически полного отмирания права, причем даже не уголовно-процессуального, а права в целом, включая частное, т. е. дискурсом сугубо утопическим и нигилистским. Нас он поэтому в контексте данного анализа интересует мало.
Однако невозможность юридически поколебать роль государства как единственного легитимного творца уголовного судопроизводства отнюдь не означает, что такие попытки не предпринимаются фактически. Напротив, они давно превратились в очевидную современную реальность, причем чем в меньшей степени их удается корректно обосновать с помощью сугубо правовых конструкций, понятий, концепций и механизмов, тем динамичнее они становятся политически и геополитически. Другими словами, правовая недостаточность компенсируется здесь методами не правовыми, а от права далекими, лежащими в плоскости геополитической активности, политического лоббирования, информационного давления и т. п. Возникает очевидное вмешательство в уголовно-процессуальную правотворческую деятельность государства, которое подчас трудно или даже невозможно уловить в правовом измерении, поскольку оно во многих случаях не вписывается в традиционное для юристов описание действия правовых институтов, в том числе призванных конструировать право в его нормативности.
Такое вмешательство сложно не только иногда уловить, но и оценить. С одной стороны, будучи в каких-то ситуациях вовсе юридически невидимым, а в других – видимым, но опирающимся на государственную легитимность, оно формально никак государственный уголовно-процессуальный суверенитет не ограничивает, что позволяет поддерживать юридический доктринальный дискурс в традиционных рамках, когда всё решает государство, его законодатель, судебные и правоохранительные органы и т. п. С другой стороны, нельзя отрицать, что такого рода вмешательство уголовно-процессуальный суверенитет государства все-таки подтачивает, причем значительно, и мимо данного феномена пройти сегодня невозможно. Это вынуждает его рассматривать и анализировать, выходя иногда за границы традиционной для правовой доктрины повестки дня. Впрочем, к проблеме разграничения формального и фактического законодателя, без учета которой трудно определить степень суверенности государства в нормативной уголовно-процессуальной сфере, мы еще далее вернемся113.
Заметим, что внешнее вмешательство в институциональную организацию государством своего уголовного судопроизводства осуществляется главным образом по линии двух современных идеологем: 1) защиты прав человека; 2) глобализации. В наши задачи не входит мало-мальски подробное рассмотрение каждой из них как таковых, тем более что литература в обоих случаях безбрежна114. Ясно также, что разница между ними условна, поскольку защита прав человека также давно уже стала глобальной, т. е. одним из проявлений глобализации. Речь скорее в оттенках или, если угодно, углах зрения.
Во-первых, если в целом защита прав человека, безусловно, имеет глобальный характер, то наиболее ее эффективные механизмы к глобальным в строгом смысле не относятся, будучи в большей степени отражением регионализации, нежели глобализации, так как действуют для ограниченного круга государств с учетом в том числе географических критериев (ЕСПЧ и т. п.). Это не позволяет полностью отождествлять глобализацию и защиту прав человека или, допустим, считать вторую исключительно одним из направлений первой, а вынуждает расценивать их все-таки как автономные идеологические феномены.
Во-вторых, опасаясь, видимо, упреков в идеологической монополизации, глобализацию редко рассматривают в ценностном измерении, делая упор на ее экономической, технологической, технократической и т. п. составляющих и отчасти выводя тем самым из-под прицела сугубо политической критики. Ценностное наполнение защиты прав человека, напротив, сомнений не вызывает: «права человека стали обязательным основанием любого современного дискурса»115. При всем стремлении показать, что речь идет о категории уже юридической, а не идеологической, поскольку всеобщее нормативное закрепление прав человека знаменует собой «переход от идеологии к праву»116, нам ясно, что такой анализ может иметь место лишь в формальной плоскости. На самом деле, придание тому или иному положению формально обязательного характера вовсе не приводит к утрате им в соответствующих случаях ценностно-идеологической сущности, а скорее отражает этап еще большей идеологизации, когда чисто ценностные категории начинают обеспечиваться санкционирующим правовым воздействием, что означает не более чем возведение идеологии «в закон». Ни на что подобное глобализация как таковая пока не претендует.
Отсюда, в-третьих, вытекает еще одно отличие: будучи возведенной в ранг нормы права и повсеместно обязательной (в том числе для государств), идеология прав человека получает возможность обеспечиваться и влиять на национальное уголовное судопроизводство через призму не только soft law или каких-то внеинституциональных методов воздействия, но и подлинных процессуальных правовых механизмов, что мы видим в Европе на примере ЕСПЧ. В случае с идеологией глобализации ничего такого, конечно, нет: ей остается воздействовать на государство исключительно посредством либо так называемых регуляторов в духе «мягкого права» или политико-экономического давления, либо вовсе «закулисных» лоббистских инструментов, так как никакими эффективными процессуальными инструментами наподобие ЕСПЧ она не располагает, по крайней мере, в уголовно-процессуальной сфере.
Наконец, в-четвертых, идеология прав человека имеет возможность влиять на уголовное судопроизводство с помощью механизмов не только институционально видимых, но и задействующих государственную легитимность в ее полном объеме, таких как международный договор, возложение на государства формально-юридических обязанностей по защите соответствующих ценностей и подходов и т. п., в силу чего большой необходимости в «закулисных» нормотворческих маневрах здесь нет – действовать можно открыто, вынуждая государства принимать соответствующие законодательные решения под предлогом выраженной ими когда-то «суверенной воли» следовать международным обязательствам в целом и каким-то конкретным обязательствам в частности. Применительно к идеологии глобализации формально-юридические инструменты и государственная легитимность помочь чаще всего бессильны: остается развивать ее иначе, иногда даже сугубо неформальным путем, который в правовой системе координат почти неосязаем.
С учетом наличия двух отмеченных фундаментальных современных идеологем (защита прав человека и глобализация), а также отмеченных отличий между ними, которые мы обозначили и забывать не намерены, можно выделить по формальным основаниям три направления внешнего вмешательства в институциональную организацию государствами их национального уголовного судопроизводства: 1) официальное процессуальное вмешательство, которое полностью легитимируется государством, обеспечивается специальными наднациональными процессуальными механизмами и наиболее ярко проявляется в европейском, т. е. региональном, ракурсе, прежде всего на примере ЕСПЧ; 2) официальное непроцессуальное вмешательство, которое также легитимировано государством, но в меньшей степени, и чаще всего выражается в различных рекомендациях, причем как глобальных, так и региональных; 3) неофициальное вмешательство, которое в большинстве случаев вовсе не имеет институциональной правовой компоненты, отчего не выглядит менее значительным, находя отражение в самых разных аспектах.
Ясно, что движение от первого к третьему направлению демонстрирует нарастание феномена глобализации: его почти нет в первом случае, если иметь в виду конкретные наднациональные эффективные процессуальные механизмы, но он самым отчетливым образом выражен в третьем (неофициальное вмешательство). Что касается защиты прав человека в целом (как идеологии), то она характерна для всех трех направлений, хотя в рамках первого их них обладает эксклюзивной природой, а в рамках, допустим, третьего проявляется лишь как одна из ветвей развиваемой главным образом путем неофициального вмешательства глобализации. Иначе говоря, по мере движения от официального процессуального до неофициального вмешательства защита прав человека становится все более глобальной и все менее эксклюзивной и региональной, проявляясь на всех континентах, но отчасти растворяясь в потоке других глобальных уголовно-процессуальных инициатив, призванных повлиять на уголовно-процессуальное строительство государств.
Кроме того, надо учитывать, что все три направления или, если угодно, формы вмешательства совсем не обязательно должны быть полностью изолированы друг от друга. Напротив, они подчас столь сильно переплетены, что отделить одну от другой весьма непросто, в чем нам еще предстоит убедиться. Скажем, официальное процессуальное вмешательство может прямо или косвенно опираться на вмешательство неофициальное и т. п. Этот аспект проблемы также надо принимать во внимание.
Рассмотрим теперь последовательно все три обозначенных направления, отдавая себе отчет в их взаимном переплетении и проникновении.
3.1. Официальное процессуальное вмешательство в организацию государством своего уголовного судопроизводства
Такого рода вмешательство предполагает наличие наднациональных судебных или квазисудебных органов, чьи решения либо являются для государства обязательными, либо учитываются им, причем не только ad hoc (применительно к конкретным делам), но и на нормативном уровне – в ходе построения или реформирования своего уголовного судопроизводства. Понятно, что в силу принципа государственного суверенитета наднациональный суд (квазисудебный орган) вправе вмешиваться в уголовно-процессуальную правотворческую деятельность государства исключительно не просто с согласия, но и по воле последнего, выраженной в международном договоре, как правило, многостороннем. Это и позволяет нам считать такое вмешательство: а) официальным (оно легитимировано государством и имеет правовые основания) и б) процессуальным (оно осуществляется в строгих институциональных рамках и обладает судебной или квазисудебной природой).
Для права наличие международных (наднациональных) судов не является чем-то экстраординарным или даже новейшим. Другое дело, что классический подход исходил из того, что доступ к ним «обычно имеют только государства»117, поскольку международные суды являются исключительно способом разрешения межгосударственных споров и ничем иным. К уголовному судопроизводству они не имели и не могли иметь никакого отношения. Ситуация, строго говоря, не изменилась даже с появлением более нового феномена – создания международных уголовных судов: ранее только ad hoc (Нюрнбергский и Токийский трибуналы, международный трибунал по бывшей Югославии – МТБЮ, Международный трибунал по Руанде – МТР и др.), а сегодня и постоянно действующего (МУС)118. В данном случае с уголовным судопроизводством мы, разумеется, уже сталкиваемся, но с уголовным судопроизводством особого рода – международным, которое не имеет ни малейшей институциональной связи с уголовным судопроизводством как таковым, никак в него не вмешивается (ни в правотворческом, ни в правоприменительном смысле) и способно повлиять на уголовно-процессуальные прерогативы государства лишь в сугубо научном плане – как некий «внешний» опыт, сопоставимый разве что со сравнительно-правовым119. Другой новейшей тенденцией, выводящей международное правосудие за пределы чисто межгосударственных споров, стала наднациональная экономическая юстиция, расцветшая буйным цветом в рамках глобализации экономики в целом и различных интеграционных процессов в частности (ЕС, ЕАЭС и т. п.). Но к уголовному судопроизводству она, как мы понимаем, отношения не имеет, за исключением тех случаев, которые будут рассмотрены в главе III настоящей книги.
Отход от более или менее сложившихся в праве принципов, в соответствии с которыми международная (наднациональная) юстиция могла охватывать либо межгосударственные споры (классический вариант), либо споры не только межгосударственные, но сугубо экономические (новейший вариант), либо особые автономные уголовно-правовые споры международного уровня (еще один новейший вариант), что исключало даже саму постановку вопроса о внешнем официальном процессуальном вмешательстве в организацию государством своего уголовного судопроизводства, произошел одновременно с окончательным утверждением господства универсальной идеологии прав человека. Самой идеологемы мы здесь касаться не будем – она прекрасно известна и закреплена в таких фундаментальных актах разного уровня и разной юридической силы как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Для нас важно другое: с одной стороны, идеологема поставила под сомнение способность государства суверенно, самостоятельно и без внешнего контроля решать вопросы обеспечения прав человека, что немедленно сказалось на отношении к уголовному судопроизводству, переставшему восприниматься как «внутреннее дело» государств, поскольку трудно найти правовую сферу, столь чувствительную к правам человека. При этом данная тенденция, проявившаяся поначалу исключительно на уровне принципов уголовного процесса, постепенно начала охватывать все более технические слои уголовного судопроизводства, выражая стремление к тотальному контролю за последним. С другой стороны, стали возникать специальные процессуальные механизмы, призванные не ограничивать контроль за уголовным судопроизводством тех или иных государств одним лишь политическим уровнем, распространив его также на уровень судебно-правовой или близкий ему.
Подобных механизмов не так мало. Некоторые из них являются максимально жесткими, функционируя, как правило, в рамках дошедших до высшей степени развития интеграционных объединений, когда экономическая интеграция постепенно стремится завоевать также политическое пространство, окончательно связав суверенитет государств, что не может не затронуть и уголовное судопроизводство. Очевидным и, по сути, единственным полностью реализованным воплощением такой интеграции выступает ЕС с его Судом справедливости Евросоюза (Court of Justice), роль которого в области уголовного судопроизводства становится все более заметной, что мы видим на примере европейского ордера на арест120. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Суд Евросоюза сегодня вынужден волей-неволей вмешиваться и в сферу прав человека121, поскольку давно уже не рассматривается как сугубо экономическая инстанция. Впрочем, возвращаться к данному суду мы здесь не будем, о его уголовно-процессуальных решениях, непосредственно влияющих на уголовное судопроизводство государств ЕС, достаточно сказано ранее. Другие из интересующих нас механизмов, напротив, являются, скорее, мягкими, иллюстрацией чего служит, допустим, Комитет по правам человека ООН, который вправе рассматривать жалобы граждан и выносить по итогам рассмотрения так называемые соображения – они в правозащитном смысле влиятельны, часто касаются уголовного процесса, но обязательной для государств силой не обладают. Отдельные специалисты считают Комитет по правам человека ООН квазисудебным (квазиюрисдикционным) органом, хотя такая трактовка расценивается в литературе как спорная122. Как бы то ни было, но реальное влияние Комитета по правам человека ООН на организацию государствами своего уголовного судопроизводства очень существенным признать трудно: его деятельность – не самый яркий пример внешнего вмешательства в национальное уголовно-процессуальное право.
Этого нельзя сказать о Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ), представляющем собой, безусловно, самый масштабный (по числу охваченных государств) и наиболее эффективный (поскольку, в отличие от Суда ЕС, не обеспечен никакими строгими интеграционно-политическими основаниями) на сегодняшний день инструмент внешнего официального процессуального вмешательства в уголовное судопроизводство суверенных государств123, пусть он и имеет сугубо региональный характер, ограничиваясь европейским континентом (странами Совета Европы). Его роль в настоящее время, в том числе в инициировании законодательных реформ в сфере уголовного судопроизводства, приводящих к гармонизации уголовно-процессуальных систем государств-членов Совета Европы, столь велика, что позволяет очень авторитетным европейским авторам заявить о «возможности сопоставления в силу подобной гармонизации между ЕСПЧ и Верховным судом США», хотя «в США действует только одно право – common law, тогда как в Европе сталкиваются common law и романо-германская система, вследствие чего гармонизация выглядит в Европе менее заметной, чем в Америке»124. Со времени написания данных строк прошло уже два десятилетия, но значение ЕСПЧ и степень его вмешательства в национальные уголовно-процессуальные системы с тех пор лишь выросли. Дошло до того, что влиятельные европейские издания стали писать о чрезмерности такого вмешательства, особенно на фоне скандала, разразившегося после публикации доклада, где показана бесспорная и прямая связь примерно четверти судей ЕСПЧ, входивших в его состав с 2009 по 2019 г., с различными структурами фонда «Открытое общество» (Фонд Сороса)125. Впрочем, справедливости ради, отметим, что отмеченные в докладе дела, в которых беспристрастность судей ЕСПЧ, их рассматривавших, вызывает откровенные сомнения, к уголовному судопроизводству отношения не имеют, затрагивая другие правовые сферы, нас здесь не интересующие.
Что касается уголовного судопроизводства, то примечательно другое: начав свою деятельность исключительно с защиты провозглашенных в Европейской конвенции 1950 г. прав человека, что предполагало внешнее контролирующее вмешательство лишь на уровне динамического обеспечения государствами-членами Совета Европы единых и при этом закрепленных в данной Конвенции уголовно-процессуальных принципов126, ЕСПЧ далее все больше и больше погружался в сугубо техническую сферу, не только развивая какие-то новые уголовно-процессуальные сущности принципиального порядка (с точки зрения прав человека), но и откровенно пытаясь сломать сущности старые, наполненные глубоким институциональным смыслом в плане построения государствами своего уголовного судопроизводства. Связь подобных подходов с правами человека очевидной не выглядит, как и позитивные последствия такого рода внешнего вмешательства в построение уголовного процесса, особенно со стороны тех, кто не слишком погружен в его сложные национальные институциональные схемы, действуя часто под влиянием сугубо идеологических или декларативных помыслов. Это, думается, и привело при оценке деятельности ЕСПЧ к смене вектора европейского доктринального дискурса: с гаранта постепенного движения к единым на европейском континенте уголовно-процессуальным принципам, закрепленным в Конвенции 1950 г., на активного участника вечных столкновений между common law и романо-германской правовой традицией, не имеющих никакого отношения к правам человека и их защите. Приведем несколько иллюстрацией вмешательства ЕСПЧ в национальное уголовно-процессуальное строительство.
Не секрет, что в России ряд уголовно-процессуальных реформ был произведен не в силу каких-либо социальных, институциональных, правовых потребностей, а исключительно по воле ЕСПЧ. Характерным примером служит появление ст. 6.1 УПК РФ, включившей в число принципов российского уголовного процесса «разумный срок уголовного судопроизводства» (Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ). Данная, причем достаточно важная, законодательная реформа никоим образом не отражает традиционный механизм принятия законов, когда избранные народом и действующие от его имени парламентарии выявляют серьезную социально-правовую проблему, разрабатывают средства ее решения, предлагают и публично обсуждают законопроект, а затем принимают его или отклоняют и т. п. Она является не более чем исполнением государством некоей новой обязанности по принятию «общих мер», возникшей в связи с вынесением ЕСПЧ так называемого пилотного постановления по делу Бурдова от 15 января 2009 г. Пилотные постановления – феномен сам по себе интересный, не предусмотренный ни Европейской конвенцией 1950 г., ни какими-то иными международными договорами, а придуманный самим ЕСПЧ (самопроизвольное расширение своей компетенции) и позволяющий ему «ставить перед государством-ответчиком»127 определенные задачи, в том числе законодательного порядка. Иначе говоря, речь идет об усилении внешнего официального процессуального вмешательства в организацию государством своего уголовного судопроизводства. Пилотные постановления – это лишь дополнительный инструмент такого вмешательства.
Что получил российский уголовный процесс в результате беспрекословного исполнения на законодательном уровне постановления по делу Бурдова и принятия Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ128? При всей положительной оценке российской дисциплинированности со стороны Комитета министров Совета Европы, а также части отечественной доктрины129, получил он процедуру по меньшей мере странную, когда председатель суда вправе по заявлению участников процесса обязать рассматривающий дело суд провести судебное разбирательство в конкретный установленный председателем суда срок или «принять иные процессуальные действия» (какие?) для ускорения рассмотрения дела (ч. 5 и 6 ст. 6.1 УПК РФ). Другими словами, лицо, вообще не являющееся участником соответствующего судебного разбирательства, пусть и обладающее, к счастью, статусом судьи (председатель суда), т. е. процессуально не причастное к оценке доказательств, не исследовавшее материалы дела, не несущее ответственность за приговор и т. п., может давать суду обязательные для последнего указания, по сути, вмешиваясь в отправление правосудия. Как все это соотносится с принципами осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ), свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) и прочими фундаментальными уголовно-процессуальными ценностями, которые законодательная деятельность по исполнению пилотного постановления ЕСПЧ, призванного, казалось бы, стоять на страже этих ценностей130, не только не укрепляет, но откровенно подрывает? Стоит ли удивляться, что реформа не встретила понимания некоторых российских судей, не говоря уже о крайней сдержанности российского судейского корпуса в целом при применении ст. 6.1 УПК РФ?131
Другим известным примером непосредственного влияния ЕСПЧ на российскую нормативную уголовно-процессуальную систему являются многолетние метания законодательства и судебной практики по имплементации многочисленных решений высокой европейской инстанции, вынесенных в отношении России и иных государств, о необходимости обеспечения права обвиняемого допрашивать показывающих против него свидетелей. Не будем эти решения приводить, они хорошо известны и давно обсуждены в литературе132. Если свести проблему к ее основной сути и вспомнить приведенное ранее высказывание Ж. Праделя и Г. Корстенса о роли ЕСПЧ в столкновении процессуальных логик common law и романо-германской правовой традиции, то ЕСПЧ выступает в данном случае проводником первой и стремится внедрить в континентальное уголовное судопроизводство идею перекрестного допроса (cross examination), когда право допросить свидетеля противоположной стороны рассматривается как фундаментальное и системообразующее133, что в значительной мере связано с недостаточной процессуальной формализацией предварительного расследования. Напротив, континентальная система построена на совершенно другом – полноценной процессуальности в уголовном судопроизводстве предварительного следствия. Иначе говоря, доброкачественность доказательств обеспечивается в ее рамках не специальными судебными механизмами типа cross examination, а статусом следователя (а иногда даже судебного следователя или французского juge d’instruction), процессуальной формой следственных действий, наделением правами лиц, в них участвующих, направленностью предварительного расследования на установление истины и т. п. Никто не отрицает, конечно, центрального места судебного разбирательства, но оно определяется не «перекрестными допросами», а обязанностью суда непосредственно исследовать все доказательства, принципом внутреннего убеждения, возможностью огласить письменные протоколы произведенных в ходе предварительного следствия допросов только при наличии специальных оснований. Другими словами, если есть основания для оглашения в суде показаний, данных в ходе предварительного следствия, то перед нами полноценное доказательство – при условии соблюдения, разумеется, при его получении на следствии всех уголовно-процессуальных форм, процедур и прав участников процесса. При этом любая сторона вправе в ходе дальнейшего судебного разбирательства данное доказательство комментировать, оспаривать, опровергать и т. п. В дополнительных гарантиях наподобие cross examination в такой ситуации не возникает ни малейшей необходимости, не забывая ко всему прочему о том, что страны, где подобные гарантии существуют (Англия, США и др.), рассматривают их в качестве не дополнительных, а едва ли не единственных, поскольку ничего иного там просто нет: ни процессуальных форм следственных действий, ни особого статуса следователя, ни прокурорского надзора, ни надлежащей регламентации предварительного расследования в целом.
Можно ли внедрить в континентальное уголовное судопроизводство англо-американский перекрестный допрос, как это много лет упорно пытается сделать ЕСПЧ? В принципе, почему нет? Тем более что стороны, в том числе сторона защиты, и так, безусловно, имеют право задавать в континентальном судебном разбирательстве вопросы любому свидетелю, кроме, конечно, тех свидетелей, чья явка в суд исключена по объективным причинам. Сложнее другое: сделать такой допрос основной гарантией доброкачественности уголовно-процессуальных доказательств, напрочь забывая о континентальной процессуальной логике. Это уже ни к чему хорошему не приводит. Мы видим, как российский законодатель вместе с Верховным Судом РФ пытаются сконструировать какие-то «схемы», дабы вписать чаяния ЕСПЧ по имплементации перекрестного допроса в давно сложившуюся институциональную структуру отечественного уголовного процесса, в результате чего появляется ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, предусматривающая возможность оглашения показаний свидетеля при наличии объективных препятствий для его явки в суд лишь «при условии предоставления обвиняемому (подсудимому) в предыдущих стадиях производства по делу» права «оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами». Наблюдаем и то, что ничего толкового в итоге не получается, поскольку никакого перекрестного допроса (как способа оспорить показания) «в предыдущих стадиях» нет и быть может, его там некуда разместить, да он там и совершенно не нужен. Мы также убеждаемся, что вследствие всех этих крайне наивных и малопродуктивных усилий возникают риски искажения классических уголовно-процессуальных институтов, например, очной ставки, которую пытаются «подстроить под требования сравнительно недавно образованного Европейского суда по правам человека», что не удается корректно сделать без разрушения данного исторически устоявшегося института, потому что «изначально очная ставка задумывалась для иного»134. Таким образом, если использовать «схему» создания суррогатных процессуальных механизмов по спасению ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, а вместе с ней и репутации ЕСПЧ, то крест надо уже ставить на соблюдении закона при производстве очной ставки, ибо ее основанием может быть только наличие существенных противоречий между показаниями ранее допрошенных лиц, а не выполнение ст. 281 УПК РФ135, что по идее все равно должно приводить к признанию результатов очной ставки недопустимым доказательством в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ.