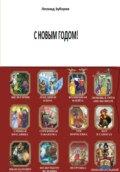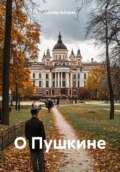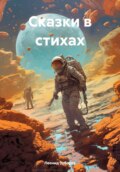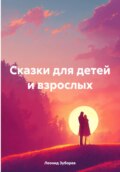Леонид Иосифович Зуборев
ГОРЬКАЯ ЛЮБОВЬ
На страницах «Самарской газеты» увидели свет: «Песня о Соколе», «Рассказы старухи Изергиль», «Челкаш», лирические медитации, романтические зарисовки. В Самаре Пешков полюбил театр, стал писать театральные рецензии.
Летом в редакции появилась Екатерина Волжина, выпускница только что окончившая самарскую гимназию. Родилась Екатерина в семье разорившегося дворянина, была начитана и чутко переживала чужие беды, жила искренним стремлением делать людям добро. Занята она была с утра до вечера, еще и давала уроки, чтобы помочь деньгами матери.
Веселая, скромная и сердечная, Катерина имела достаточно поклонников, но, к огорчению родителей, полюбила газетчика; их пугала десятилетняя разница в возрасте, прошлое кавалера и отсутствие у Пешкова образования. В отличие от бездипломного жениха Катя окончила гимназию с серебряной медалью.
– Да неужели вы, такая красавица, никем не увлекаетесь, и за вами никто не ухаживает? – допытывались знакомые.
– Мне некогда, я или на работе или уроки даю, – отвечала Катерина.
Однажды самарский судебный следователь пригласил газетчика на вечер. Алексей сразу всем понравился: простой, душевный, подходивший к людям искренне и сердечно. Квартира следователя была своего рода клубом, здесь собиралось много народу. На этих вечерах Пешков бывал с Катей Волжиной, которая, проявляя интерес к изящной словесности, только что получила место корректора в «Самарской газете».
Идеалистически настроенная, строгая барышня Катерина Волжина всерьез увлекла и затронула сердце Алексея Пешкова. Разумеется, кавалеры постоянно обращали внимание на пригожую дворянку, но вот запал ей в душу Алексей. Он тоже поддался очарованию барышни. Начиная с их первой встречи кавалер видел в лице Кати будущую любящую жену и верного друга. Хороша собой, прекрасно воспитана, интеллигентна, – Екатерина могла внести в жизнь Пешкова все то, чего у него никогда не было: ощущение домашнего очага, уюта.
Екатерина необъяснимо для себя чувствовала в нем большой талант: нищий мальчишка, украдкой от хозяев читавший по ночам книги, Алексей, самостоятельно, жадно учась, многое повидав, впитал громадный опыт русской жизни. Он опирался на безграничную память, являвшуюся одной из его самых удивительных способностей. Она постоянно видела его с неизменной книгой в руках. Внимательный читатель, он многому учился от опытных собратьев по перу.
Начинающий писатель сообщал друзьям о своей невесте:
"Описать Вам ее: Екатерина Павловна Волжина, дворянка из разорившихся, кончила гимназию, 19-ти лет от роду, среднего роста, гибкая, волосы вьющиеся, глаза не знаю какие, рот и нос некрасивы…
Какие у нее желания? В данное время желает как можно скорее возвратиться в Самару и обвенчаться со мной. Мне это желание нравится. Занимается корректурой в "Самарской газете". Что она любит? Говорит, что любит меня. Верю.
Чем вообще живет? Я давно думаю над этим коварным вопросом, коварным, потому что он неразрешим. Чем вообще люди живут, а также зачем это они живут?.. Ведь не для смерти же? Так зачем? Я – не знаю, чем я живу – как может знать это Катя? Впрочем, если спросить ее, она ответит пожалуй – Любовью!"**
* * *
Псевдоним «Максим Горький» появился, когда Пешков, странствуя по Руси, напечатал рассказ «Макар Чудра». Нижегородские старожилы утверждали, что псевдоним им выбран в память об отце, прозвище которого, за острый язык, было – «горький».
В этом рассказе писатель словами старого цыгана уверяет:
Так нужно жить: иди, иди – и всё тут. Долго не стой на одном месте – чего в
нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее.
А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает…
Вдруг одумалась Ольга Каменская. Она не хотела терять Алексея Пешкова, но он, охваченный новыми чувствами, хорошо помнил, как она ему сказала перед поездкой в Париж:
– Не пиши мне. Разрыв – так разрыв навсегда.
Теперь он твердо решил не возвращаться:
«С невозможностью продолжать наши старые отношения – помирись, тогда, поверь мне, тебе будет легче… Я не обижен тобой – я судьбой моей обижен. Если ты способна не говорить со мной о твоей любви ко мне – о чувстве, в которое я не верю и которое больше не нужно мне, – если ты способна на это – можешь всегда смотреть на меня как на человека тебе близкого и всегда готового помочь тебе жить».
Искреннее чувство Алексея Пешкова к юной Катерине не осталось безответным. Нижегородская дворянка полюбила его всей своей молодой душой, словно видя себя в его поэме «Девушка и Смерть»:
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней…
«Виновата, не пришла я к сроку,
Думала – до Смерти недалёко.
Дай еще парнишку обниму:
Больно хорошо со мной ему!
Да и он – хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди.
Вишь, цветут, как огненные маки!..»
«Что ж, – сказала Смерть, – пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе – живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!»
Переписка началась, когда Екатерина еще была невестой. 28-летний фельетонист предупреждал 18-летнюю корректоршу:
«Я очень беспокойный человек и я очень непонятный…
Сколько во мне противоречий… в видах твоего самосохранения – подумай, что именно тебе нравится в Алексее Максимовиче Пешкове?
Я хорошо его знаю – хочешь поговорить о нем со мной?
Претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком высокие требования и несколько третировать их свысока… Как будто умен один Пешков, а остальные – идиоты и болваны. Вообще недостатком преувеличенного о себе мнения Пешков обладает в совершенстве… Теперь его социальное положение…
Какое место в жизни может дать странствующий литератор, человек у которого в кармане ныне густо, завтра пусто или нет ничего? Бродячая жизнь, полная превратностей и лишений, вот что ждет тебя. Его журнальная литература – ты знаешь, это пока еще нечто, – писанное по воде вилами».
Невеста в его признаниях могла найти много настораживающего:
«У меня, Катя, есть своя правда, совершенно отличная от той, которая принята в жизни, и мне много придется страдать за мою правду, потому что ее не скоро поймут и долго будут издеваться надо мной за нее…
Тебе, жене литератора, нужно знакомиться с жизнью страны, в которой он намерен быть не «последней спицей» ее культурной колесницы…
Странный я человек, Катя, – чего хочу? У меня душа – бродяга, вечно рыщет где-то вне земли и вечно чего-то настойчиво ждет и просит».
А пока жених смешил свою избранницу:
Екатерина Павловна подарила жениху хрустальный пресс, который помогал провинциальному газетчику содержать в порядке бумаги; он был тронут подарком:«Прилагаю при сем мой кривоплечий и косоглазый портрет… Все мои карточки выходят плохо – рожица у меня всегда почему-то сладкая…»
«В комнате масса солнца, его лучи прошли сквозь твой подарок, пресс, и упали розовые и живые на твой портрет, как раз на лицо. Ты точно ожила вдруг, смотришь на меня и улыбаешься»…
Через полгода Алексей пришел к Катерине домой, чтоб сделать предложение, а отец, почтенный мужчина, лежит больной в чахотке. Ухаживала за ним младшая сестра, гимназистка, мать заведовала детским приютом.
Очень понравился ему отец – добрый, величавый. Глава семейства окончил естественный факультет университета. Больно было видеть, что славный человек обречен на скорую смерть. Горький жалел, что не был знаком с ним ранее.
–– Он умница, мало этого, он философ! – говорил жених о будущем тесте.
Много они беседовали, и Волжин полюбил Алексея. Печальная история вышла c отцом невесты: ехал вьюжной зимой и угодил с лошадьми в овраг. Пока вытаскивал лошадей и сани, простудился, схватил воспаление легких, и открылась чахотка. Вдове, чтоб прокормиться, пришлось искать работу. В юности она закончила институт и преподавала иностранные языки.
Когда открылась любовь Алексея и Екатерины, отец одобрял, а мать была против. Губернаторша смущала ее:
–– Это форменный мезальянс. Она – дворянка хорошего рода, а он… Что он такое? Какой-то там писатель из босяков. Что он ей за пара? Дворянская кровь должна течь, не сливаясь с мещанской. Брак дворянки с нижегородским «цеховым»? Ни к чему это!
Было решено разлучить их: авось-де девица опомнится. Будущая теща, списавшись с братом, капитаном I ранга, услала дочь к нему. Там ее стали вывозить в клуб. Жених же был уверен в невесте и старался подзаработать, где только можно. По счастью, в Нижнем открылась Всероссийская выставка-ярмарка, и Алексей уехал зашибать деньгу, надеясь на скорую свадьбу. Работал во всю прыть, писал черт знает о чем. Там было двести павильонов, четыреста репортеров, миллион посетителей…
В награду к нему приехала с сестрой Екатерина. Как раз в это же время случился приезд на ярмарку Николая Второго. Народу собралось много, войска оцепили улицу. Жених взял в аренду стулья, чтобы Катерина с сестрой, встав на них, смогли увидеть Его Императорское Величество. Российский самодержец, так неумело управлявший шестой частью мира, проехал в коляске важно, не шелохнувшись, весь в белом. Молодежь смотрела ему вслед с презрением, а Алексей вдогонку «проокал»:
–– Россия слишком глупа для того, чтобы не быть монархией…
К закрытию ярмарки Алексей сколотил немного денег и помчался в Самару. Катерине трудно было решиться, ибо в те годы с волей родителей считались. В невесте все же росла уверенность, что Алексей сумеет завоевать их расположение. А пока барышню услали в Петербург, повидать людей. Она сравнила столичных женихов со своим избранником. Сравнение оказалось не в их пользу. Разлука лишь укрепила ее чувство. За это время жених очаровал и покорил будущего тестя. Екатерина вернулась, когда отец был уже совсем плох. Вскоре отец умер, похоронили. Возобновилась работа в «Самарской газете». Видя, что разлука не помогла, матери пришлось согласиться на свадьбу. По окончании траура молодые обвенчались в самарском соборе. Все было: и фата, и цветы… После скромного свадебного вечера их усадили на пароход, и они, счастливые, уплыли в Нижний.
Часто их можно было видеть вместе в тени парка, где по аллем гуляла публика, и Волгу видно верст на пять. Днем с пароходов, подплывавших к городу, открывался вид на кремль, сверкало солнце, купаясь в золоте церковных куполов, горели кресты. Поздним вечером в реке отражались сияющие огни…
* * *
В Нижний из Минска после смерти жены переехал этнограф Адам Богданович. Через два месяца после свадьбы Пешковых к молодым супругам наведался белорусский гость. Приняла его юная хозяйка, с миловидным лицом, выразительными глазами и роскошными волнистыми волосами.
Обстановка в квартире мало гармонировала с очаровательной женой. Все было куплено по случаю или у старьевщика. Пока вышел муж, Екатерина Павловна заняла Богдановича.
За стеной послышался кашель, показался Алексей Максимович, бледный, с пытливыми глазами. Длинноволосый, с широкой, но впалой грудью, слегка сутуловатый, одет он был в светлую косоворотку, стянутую узким ремешком. Вскрыв рекомендательное письмо, прочитал с улыбкой: «От Сладкого к Горькому».
Затем перешли в соседнюю комнату, служившую спальней и рабочим кабинетом. Рядом со столом – этажерка, заполненная книгами. Оба книголюбы, за них они принялись в первую очередь. Оказалось, что все эти книги, Пешков прочитал. Бережно достал два больших тома «Истории религиии».
«Библия, – пробасил, поправляя спадавшие на лоб волосы, – клад великолепных изречений, у нее особый строй речи… Люблю «Книгу Иова», – признавался Горький.
Насчет каждой книги у начинающего литератора было собственное суждение. Заговорили про «Анну Каренину» Толстого.
Кашлянув, Алексей пригладил прокуренные усы:
«Более безрадостной любви, более скучной, не знаю: ни разу при луне не прошлись, ни одного ласкового слова друг другу не сказали, ни разу не поцеловались. Русские не умеют о любви писать. В этом мастера только французы», – убежденно заметил Горький.
Когда Богданович попросил дать что-нибудь из собственных сочинений, Горький протянул «Песню о Соколе», написанную ритмической прозой. В ней говорилось о том, как раненый Сокол упал в ущелье, где лежал Уж и смотрел в небо. Смелая птица знает лишь одно счастье – битву, она мечтает снова летать. Сокол не может смириться со злой судьбой: он разбивается о камни, а осторожный Уж только делает попытку взлететь, но «рожденный ползать – летать не может!»
В «Песне о Соколе» серенькой, трусливой жизни самодовольного Ужа противостояла безумная жажда свободы и радость борьбы Сокола.
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом
всегда ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых – вот мудрость жизни!
Постепенно знакомство Богдановича с Пешковыми переросло в сердечную дружбу. Горький сочинял большей частью по ночам, днем жена переписывала начисто, поправляя пунктуацию автора, иногда указывала на неудачные обороты речи. По вечерам к молодоженам приезжал подружившийся с ними адвокат. Он припоминал интересные случаи из своей практики, которые Горький использовал в своих рассказах. Следил за здоровьем писателя знакомый доктор. Туберкулез у Горького прогрессировал, врачи советовали ехать в Крым. Поездка требовала денег, которых не было. Кое-что и так уже было отнесено ростовщице в залог, даже золотые монеты, брошенные в башмачки родственниками молодой в день свадьбы.
Рождение сына
Из Крыма Пешковы поехали на Украину, там жена благополучно родила своего первенца, названного в честь деда – Максимом. Отец был несказанно рад. Он вспоминал как пять лет назад сам стал «акушером», помогая родиться на свет человеку:
Превосходная должность – быть на земле человеком!
Над кустами, влево от меня – скуластая баба, молодая,
беременная, с огромным вздутым к носу животом, испуганно
вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над
кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно
цветущий подсолнечник под ветром….
Тихий стон в кустах… Раздвинув кусты, вижу – опираясь
спиною о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова
опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и
безумны; она держит руки на огромном животе и так
неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно
прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив
желтые волчьи зубы.
-– Уди-и… бесстыжий… ух-ходи…
Я понял, в чем дело, – это я уже видел однажды, – конечно,
испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завыла, из глаз
ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу… Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завыла, судорожно вытягивая ноги.
В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по
этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги – у нее уже
вышел околоплодный пузырь.
-– Лежи, сейчас родишь…
Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и – стал акушером.
Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле
вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, – я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот…
– Х-хосподи,– хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, всё льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.
-– Ух-ходи ты, бес…
И вот – на руках у меня человек – красный. Хоть и сквозь
слезы, но я вижу – он весь красный и уже недоволен миром,
барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью.
Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом
лице, губы шевелятся и тянут: – Я-а… я-а…
Такой скользкий – того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу – очень рад видеть его! И – забыл, что надобно делать…
-– Режь…– тихо шепчет мать,– глаза у нее закрыты, лицо опало,
оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:
-– Н-нет… силушки… тесемочка кармани… перевязать пупочек…
-– Дай… дай его…
И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на
груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой
на двадцать человек детей…*
…Даже когда ребенок запросился на белый свет, муж и жена не загадывали: мальчик или девочка, не обсуждали, не выбирали имя. Но как только дитя появилось, отец решительно сказал: «Максим», отдав дань памяти своему рано умершему родителю… Алексей Максимович был нежным, заботливым: не боялся брать новорожденного на руки, любил пеленать, купать ребенка.
В письме счастливый муж признавался Екатерине Павловне:
«Я люблю тебя не только как мужчина, как муж, люблю и как друг, может быть, больше как друг».
Но не слишком долго продолжалась радость. Явился жандармский ротмистр, произвели тщательный обыск и на глазах у испуганной жены арестовали Горького. На следующий день литератор под конвоем был отправлен на Кавказ, откуда в письме интересовался у жены:
«Ну, как поживает Максим? Не говорит ли каких-либо новых слов? Здоров ли?.. Иногда хочется взять на руки Максима и подбросить его к потолку, но я долго сентиментальным не бываю.
Хлопочи о поруках, будь здорова и спокойна, береги сынишку.
Поезжай-ка в Самару, Катя. Маме своей ты бы не сообщала о происшествии со мной – скажи, что состояние моего здоровья вдруг ухудшилось и я уехал на Кавказ… Целую сынишку и тебя. Алексей».
Успех и слава
Выдворяя Пешкова из очередной тюрьмы, жандармский полковник, неторопливо чиркнув спичкой, брюзгливо наставлял:
– Какой вы революционер? Вы – не еврей, не поляк. Пи́шите, вроде, неплохо. Когда я вас выпущу, покажите рукописи Короленко. Это – серьезный писатель.
Молодому литератору удалось встретиться с мастером:
«Какое суровое лицо у вас! – воскликнул Короленко. – Трудно живется? Вы часто допускаете грубые слова, должно быть они кажутся вам сильными?»
Недели через две Короленко объявил, что у Пешкова есть способности, но писать надо с натуры, не философствуя. Мастер сразу разглядел талант: «Самое хорошее, что вы цéните человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист. Но в то же время – романтик!.. У вас есть юмор, хотя и грубоватый! – добавил писатель. – А стихи ваши – бред!»
Постепенно стали приходить хвалебные отзывы на двухтомник рассказов Горького. Все было ново в нем: живые герои и необычные изобразительные средства, яркие лучи солнца и сверкающее море…
И вскоре случилось необыкновенное: портреты писателя-босяка появились везде, даже на коробках конфет и пачках папирос. Рассказы принесли молниеносную славу нижегородскому цеховому малярного цеха. Местà, виденные им, и слова, услышанные от простого люда, – он с жадностью впитал и вернул встреченное в живых, красочных образах. Кругом слышны были толки о новоявленном писателе. Когда слава о Горьком загремела по всей России, в Самаре и Нижнем не верили, что это тот самый бродяга в странной разлетайке.
– Мы присутствуем при рождении знаменитости! – воскликнул Богданович, прочтя очередную восторженную статью о талантливом друге. Слава Горького, неслыханная, какой не знал ни один русский писатель, росла, а вместе с ней улучшалось и материальное положение.
Постепенно в квартиру Пешковых стягивались все нити культурной жизни Нижнего. Здесь гостили: певец Ф. Шаляпин, художники, артисты, писатели.
Если муж отлучался, то постоянно писал домой:
«Сейчас получил твоё письмо – очень милое. Жаль, что в нём мало сказано о Максимке. Мне скучно без него и боязно, что он захворает. Пожалуйста, пиши, как и что он ест. Вчера, гуляя, я нашёл маленький мяч, привезу ему. Чехов говорит, что не видал ещё ребёнка с такими глазками».
В следующем послании Горький сообщал: «Спасибо, Катеринка, за письмо. Я приеду к пасхе, наверное, в субботу. Мы поедем вместе с Чеховым. Он очень определённо высказывает большую симпатию ко мне, очень много говорит мне таких вещей, каких другим не скажет, я уверен. Меня крайне трогает его доверие ко мне, и вообще я сильно рад, очень доволен тем, что он, которого я считаю талантом огромным и оригинальным, писателем из тех, что делают эпохи в истории литературы и в настроениях общества, – он видит во мне нечто, с чем считается. Это не только лестно мне, это крайне хорошо, ибо способно заставить меня относиться к самому себе строже, требовательнее. Он замечательно славно смеется – совсем по-детски. Видимся мы ежедневно…
Но мне за всем этим скучно без тебя и Макса…
Кажется, я пойду к Льву Толстому. Чехов очень убеждает сделать это, говоря, что я увижу нечто неожиданно огромное.
Тут за мной ухаживают барыни – я попробую утилизировать их пустое время. Но, хотя и ухаживают – ты не беспокойся, ибо самой сносной из них лет за сорок, а самая молодая – харя и глупа, как лягушка… Опиши мне как-нибудь Максимкин день, час за часом…
Горький приезжал в Петербург, где встречался со столичными знаменитостями, пришедшими познакомиться с самородком. Бунину обрисовали молодого писателя: ражий детина, в шляпе с громадными полями и с пудовой дубиной в руке. В Ялте, где Чехов свел их, Бунин впервые увидел Горького:
Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная
длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета,
вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только
не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый,
рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми
глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями
и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает
большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит…
В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к
себе, Горький позвал меня зайти к нему… Показал мне, морща
нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой,
карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках,
Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, припотом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами: – Это, понимаете, я на кофточку ей купил… этой самой женщине подарок везу…
милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения,
говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все
время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским
говорком с оканьем.*
Стали зарождаться знакомства с артистами, писателями. Горький делился с женой о встречах с Львом Толстым:
Он похож на Бога, на этакого русского Бога… Его интерес ко мне -
этнографический. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему,
и – только. Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму
я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и
любовно читал его книги, – нет человека более достойного имени гения,
более сложного, противоречивого и во всем прекрасного…
Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:
–– Вы – настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы
ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо -
ничего! Умные люди поймут…
О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист,
но всегда с тою грубостью русского мужика, которая – раньше – неприятно
подавляла меня. …
Сегодня в роще он спросил Чехова:
–– Вы сильно распутничали в юности?
Антон Павлович смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал
что-то невнятное, а Лев Николаевич, глядя в море, признался:
– Я был неутомимый…
Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое
мужицкое слово и продолжал:
– Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того,
что ей следует знать о нем. Он сказал – и забыл, а она помнит. Может
быть, ревность – от страха унизить душу, от боязни быть
униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за…, а
которая – за душу.
Вечером, гуляя, Лев Николаевич неожиданно произнес:
– Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и
всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной
трагедией была, есть и будет – трагедия спальни…*
Горький, с некоторым удивлением, говорил жене:
–– Знаешь, Катерина, он любит ставить коварные вопросы: что вы думаете о себе, любите ли вашу жену? Лгать перед ним – нельзя…
Ближе других Горький сошелся Чеховым. Однажды Антон Павлович, задумавшись, тихо сказал ему:
–– Такая нелепая, неуклюжая страна – эта наша Россия –
Это стыдно и грустно, а верно: есть множество
людей, которые завидуют собакам…
И тотчас же, засмеявшись, добавил:
–– Я сегодня говорю все дряхлые слова… Значит – старею…
Однажды его посетили три пышно одетые дамы;
наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких
духов, они чинно уселись против хозяина.
–– А кого вы больше любите – греков или турок? – спросила она.
Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой,
любезной улыбкой:
–– Я люблю – мармелад… А вы – любите?..
– Вы славно беседовали! – заметил я, когда они ушли.
Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:
– Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком…
Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов…
– Знаете – напишу об учительнице, она атеистка – обожает
Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку» – косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в
нем любовь, – есть такая косточка…
– Знаете, почему Толстой относится к Вам так неровно? Он ревнует…
Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к
Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу… Горький -
злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно
постригли в монахи …»
Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы
продолжал:
– Я говорю: «Горький – добрый». А он: «Нет, нет, я знаю.
У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и
злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть
чутье к хорошему человеку … Уметь любить – значит все уметь…*
Чехов наставлял молодого литератора. Знаменитый писатель, любивший начинающего автора, не был, например, в восторге от того, что в рассказе «Мальва» море «смеялось».
Чехов учил: море не смется, не плачет; оно шумит, плещется, сверкает. Читателям, однако, нравилось, что море может смеяться.
* * *
Мысли Горького, его чувства, дела, заслуги,
ошибки – всё это имело один-единственный корень -
Волгу, великую русскую реку, – и её стоны…
Ф. Шаляпин
Молодые супруги обожали музыку, посещали концерты. Врожденная страсть к музыке сближала их. Однажды отправились слушать оперу. Гастролер так понравился, что писатель запросто пошел за кулисы и выразил свое восхищение. Ранее они виделись лишь мèльком. На этот раз разговорились. Оказалось, что юность прошла где-то рядом: бродяжничали, грузили баржи, набирались ума…
На следующий день Шаляпин прямо с утра появился в квартире Пешковых и обитался там до конца гастролей, здесь же ночевал, питался и – к великому удовольствию супругов – пел. Проснувшись, он пробовал голос – «О-ого-оо!». Его мощный бас звучал так, что было слышно на улице, и под окнами собиралась толпа. На всю округу неслось – Эх, дубинушка, ухнем!..
Прохожие останавливались, как завороженные, никто не смел произнести ни слова: все наслаждались пением.
Затем, в ходе концерта, где был получен солидный доход, Горькому пришла мысль собрать денег на благотворительные цели. В честь полюбившегося артиста был дан ужин.
Шаляпин поднялся:
– Господа! Говорить – не петь, на это я не мастер, это не по моей части. Вот мастер слова – Алексей Максимович, наше солнышко красное. Я все время возле него вращаюсь: оно и светит и греет. Хорошее дело он затеял – постройку Народного Дома, а денег не хватает. Надо бы, чтоб каждый дал по средствам.
И благославляя, он затянул на церковный лад по-протодиаконовски:
–– Го-спо-оди!..
Покончив с гастролями и получив изрядный куш, Шаляпин пригласил Пешковых на пельмени. Шаляпин и Горький так близко сошлись, что о них, талантливых самородках, стали говорить, как о братьях-близнецах.
* * *
Время шло, и вдовец Адам Богданович стал заглядываться на младшую сестру Екатерины – Александру. Однажды, когда Пешковы уже легли спать, к ним заявились Александра и Адам. Они объявили родственникам, что решили пожениться. Новый год встречали уже двумя молодыми семьями.
Пока Горький писал «Фому Гордеева», Екатерина с сестрой катались на пароходе по Волге. Роман выдвинул Горького в ряд мастеров. Осенью он снова поехал в Петербург, где сошелся с революционерами и составлял прокламации, призывавшие к свержению царя.
Сёстры вернулись в Нижний довольные и отдохнувшие, Александра была беременна, но чувствовала себя хорошо. Ничто не предвещало беды, притаившейся совсем рядом. Через несколько дней Горький сообщил Чехову, чтозахворала сестра жены и, проболев три дня, – умерла. Тетка забрала племянника к себе, в честь матери назвали его Александром.
Наступил Новый 1900 год. Страшная, недавно пережитая трагедия, подавляла хозяйку и окружавших. Больше всех переживала Екатерина Павловна, горячо любившая сестру. Алексей Максимович пристроился в углу с Адамом Богдановичем и читал вслух «Даму с собачкой». Закончив читать, стали обсуждать – и вконец переругались. В этой атмосфере Горький написал откровенное письмо Чехову:
«Огромное Вы делаете дело Вашими маленькими рассказиками, возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни – черт бы ее побрал!
На меня Ваша дама подействовала так, что мне сейчас же захотелось изменить жене, страдать, ругаться и прочее в этом духе. Но – жене я не изменил – не с кем, только вдребезги разругался с нею и с мужем ее сестры, моим закадычным приятелем. Вы, чай, такого эффекта не ожидали?..»
Дочь Катя
После второго ареста мужа Екатерина Павловна дала знать Льву Толстому, который обратился к министру, уверяя, что заключение угрожает жизни литератора: «Я лично знаю и люблю Горького не только как даровитого, ценимого и в Европе писателя, но и как умного, доброго, симпатичного человека».
В результате Горький был выпущен и благодарил Толстого: «Спасибо Вам, Лев Николаевич, за хлопоты обо мне. Из тюрьмы меня выпустили под домашний арест, что очень хорошо, – ввиду близких родов у жены».
Через несколько дней родилась дочь, которую, как и мать, назвали Екатериной.
Мальчиком в семью Горького был принят С. Маршак. Пешковы приютили будущего поэта.
Гости были все знаменитые. Благодушный Репин, говоривший замогильно-
глухим голосом. Глазунов, молодой, но уже грузный… Ждали Шаляпина, старого знакомого Стасовых, с Горьким....