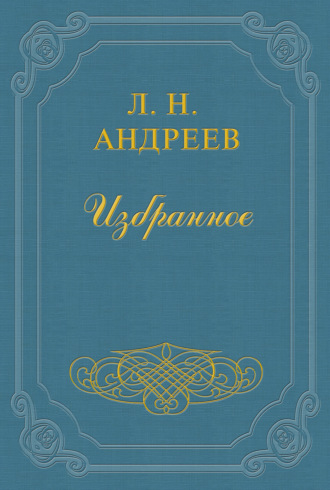
Леонид Андреев
Москва. Мелочи жизни
Если бы кто-нибудь мог подняться в бесконечную высь, одним орлиным взором окинуть все человечество, чутким слухом уловить его многоголосную речь – он, быть может, с негодованием выбросил бы из нашего языка самое слово «человек». Мягко журчащие речи о гуманности, божественные голоса гг. Собиновых, сладкие звуки песен и молитв[10] исчезли бы для него в отчаянном вопле насилуемых, голодных, избиваемых. Он увидел бы культурных французов, совершающих ужасные варварства в Западной Африке, этом море, куда тысячью ручьев вливается гнусность и бесчеловечная злоба. Он увидел бы занятие тем же делом высококультурных англичан и немцев – да куда бы он ни обратил свой взгляд, всюду он увидел бы зверя, или откровенно жестокого, или бессознательно хищного и свирепого и еще более отвратительного в этой кроткой и тупой бессознательности.
Можно ли оклеветать тех, на совести которых лежит хотя бы одна только англо-бурская или китайская война? Они ссылаются, что между ними были пророки, – но разве они не избивали своих пророков!
К характеристике тех, которые обиделись за человеческую природу: они не заметили проституток. Они ужаснулись тому, что культурный юноша насилует беззащитную и уже оскорбленную девушку, и сказали: это неправда, этого быть не может. А проституток они не заметили. Дело, видите ли, в том, что проституток очень вообще много. Дело, видите ли, в том, что проституция есть нечто обычное, узаконенное и в небольших размерах допускаемое для самых благонравных юношей и старцев. Изнасиловать оскорбленную девушку – это до того скверно, что даже невозможно, а пойти и купить ту же девушку, также тысячекратно оскорбленную, также беспомощную и несчастную, – это до того возможно, что даже и не скверно.







