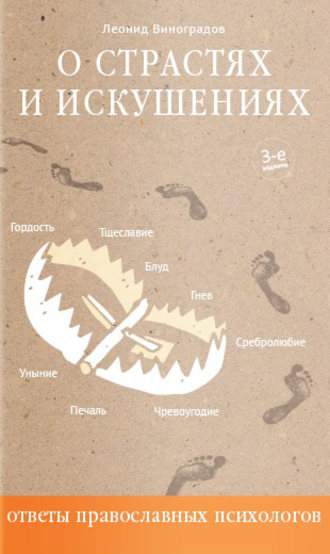
Леонид Виноградов
О страстях и искушениях. Ответы православных психологов
– Вы не пробовали поговорить с ее духовником?
– По опыту знаю, что такие женщины духовников меняют не реже, чем психологов. Об этом мне рассказывали многие священники. Для них такие прихожанки тоже большая проблема: стоит женщине указать на ее промахи, недостатки – она воспринимает это как несправедливый упрек и обижается. Она ждет только похвалы, не приемля никакой критики. Если же священник не поддерживает ее постоянную критику в адрес близких, а предлагает ей поискать сучок в собственном глазу, и если это повторяется не один раз, она начинает поиски другого духовника, более «мудрого» и «опытного».
– Такое поведение свойственно именно женщинам?
– Такое может быть с кем угодно. Просто гендерная принадлежность вносит свои особенности. У гордого, властного, всезнающего отца дети, особенно сыновья, растут подавленными, забитыми, неуверенными в себе. Такой отец подсознательно переносит на сына ту нереализованность, ту требовательность и неудовлетворенность, которую он испытывает сам в отношении к себе. Проще говоря, отыгрывается на сыне за собственные промахи, и это крайне плохо для психики ребенка.
Недавно я как раз общалась с таким папой, который «всегда прав». У него очень проблемный сын-подросток, который до ночи сидит за компьютером, а потом, естественно, просыпает школу. Отец был в ярости, никакие доводы, требования, угрозы не работали, а других средств воспитания у него, к сожалению, не было в арсенале. Я спросила: «Скажите, пожалуйста, у вашего сына есть какие-то мечты? Может быть, он любит музыку или спорт?» Он ответил: «Футбол, ну и что? Вы что, предлагаете ему заняться футболом? Еще чего! Пусть сначала начнет ходить в школу, получать хорошие оценки, вот тогда, может быть, я подумаю об этом!» Я понимала, что отца на самом деле не интересует то, как помочь сыну найти себя, преодолеть этот трудный, мучительный переходный возраст. Его волновал только вопрос власти и подчинения. И, конечно, собственной правоты. Бессмысленно было напоминать ему, что он сам, по его словам, не мог оторваться от телевизора до утра, не мог заставить себя сделать и другие важные и полезные вещи. Но, как я уже говорила, самокритика для людей такого типа – совершенно исключенный из арсенала прием. Ведь критический взгляд на себя может довольно быстро пробить брешь в этой амбициозной, тщеславной, заносчивой и властной броне, и откроется неуверенный, испуганный и слабый человек, которому уже не удастся считать себя лучше и выше других.
– Вы привели примеры детско-родительских отношений. Между взрослыми людьми гордость проявляется как-то иначе?
– Здесь нет принципиальных различий. Все сводится к тому, что человек не хочет, а часто и не может отказаться от ощущения собственной значимости, своей правоты всегда и во всем. Другой в мире такого человека – всегда средство, повод, объект. Я уже говорила, что такая жизненная философия, постановка себя в центр бытия часто связана с глубинной неуверенностью, страхом быть как все, то есть обыкновенным. Но эти глубинные страхи, неуверенность на поверхности проявляются именно в демонстрации собственной исключительности, явной или скрытой, завуалированной. Я недавно работала с одной молодой женщиной, которую переполняли претензии к мужу. Он, по ее словам, не понимал ее, был к ней равнодушен, невнимателен; вывод был «закономерным»: «Он не любит меня!» Но постепенно, пытаясь понять глубинные причины происходящего, мы подошли к тому, что она сама была не очень в ладу с собой: с одной стороны, у нее были завышенные амбиции, с другой стороны, она была очень закомплексована. Я уже рассказывала вам об этой специфике неадекватной самооценки.
Но было недостаточно просто сказать моей клиентке: посмотрите, все претензии, которые вы подсознательно предъявляете самой себе, вы переносите на своего мужа, и он, естественно, становится виноватым в том, в чем совсем не виноват – в ваших отношениях с самой собой! Пришлось не просто говорить ей об этом, а глубоко и тщательно проработать истинные причины нарушения здорового самоотношения. В результате она сказала: «Я очень рада, что именно этот человек рядом со мной. Он мой настоящий учитель, благодаря ему я начинаю видеть свои промахи, свои страхи и свою ложь и ему, и самой себе. Чувство собственного достоинства – вот чего мне не хватает сейчас!» Вдумайтесь! Сначала мы имели дело с типичным проявлением невротической гордости – с чувством собственной правоты, безапелляционностью, надменностью и высокомерием. Но опыт встречи с подлинными причинами ее состояния позволил этой девушке выйти к смирению, встать в определенную позицию по отношению к себе и увидеть себя такой, какая она есть. И в результате она осознала огромный внутренний дефицит чувства собственного достоинства, я бы уточнила – речь в данной ситуации шла об уважении к самой себе. Дело в том, что эта девушка выросла в атмосфере неуважения и равнодушия, с ней никто не считался, и ее гордость стала той самой защитной броней, закрывающей ее от боли унижения. Но во взрослой жизни эта броня уже не защищала ее от детских травм, а стала непреодолимой преградой между ней и близким человеком. Что мы видим на этом примере? Гордость всегда связана с эгоцентризмом, отгороженностью от других, ощущением себя выше и лучше остальных и глубинным страхом обнаружить себя таким, каков ты на самом деле. Если такую форму гордости удается преодолеть, то мы выходим к смирению, к способности уважать как себя, так и другого, к ощущению близости, родства между людьми.
– Может ли человек сам справиться со своей гордостью?
– Многие святые отцы говорят о том, что гордость лечится смирением. Но надо иметь подлинную веру и мужество встречи с самим собой, чтобы открыть свое сердце смирению. Российский писатель и публицист Борис Батлер однажды очень точно заметил: «Жизнь подносит гордому под нос нашатырь страдания». Это очень точное, на мой взгляд, замечание. Именно в страдании человек выходит к пониманию собственной ограниченности – он соприкасается с чем-то, что явно больше и сильнее его. Страдание смиряет с неизбежностью, низвергает с «пьедестала» успеха, помогает довериться, разомкнуться, открыться помощи Бога и помощи других людей. Ощущение близости к Богу, Его невыразимой и неохватной любви к нам позволяет почувствовать себя таким, каков ты есть, без страха, в полном доверии, и увидеть другого человека таким же образом. В этом акте веры, смирения и любви сгорает броня гордости, которая закупоривает человека внутри, не позволяя ему выйти наружу, к жизни, к людям, к Богу.
Однако здесь надо уточнить, что все вышесказанное можно отнести лишь к невротическим формам гордости. Ее причины чаще всего не осознаются человеком. Осознание же этих причин может помочь человеку преодолеть свою гордость. Но есть и иная степень гордости, ее обычно называют гордыней. Здесь уже речь идет о страсти, о безумном притязании стать окончательным судией самому себе, самому вершить суд, который выше суда Божьего и суда человеческого. Тут уже вряд ли можно говорить о психологических особенностях, о детских травмах, о степени неосознавания самого себя. Здесь речь идет о духовном недуге. Но человек попадает в такое духовно страшное состояние не одномоментно, он может идти к нему годами, десятилетиями. Задача психологии как раз и состоит в том, чтобы помочь выявить зародыши гордыни. Выявить и обезвредить.
Гордость – очень тонкая, изощренная страсть, она может прятаться за очевидными добродетелями, за милосердием, за человеколюбием, за верностью Родине, делу, человеку и так далее. Не случайно все отцы Церкви предупреждают о гордыне как об очень коварной и страшной страсти, которая может привести к гибели души. Именно поэтому борьба должна вестись на всех уровнях. На уровне духовном опорой человеку будет Церковь, ее таинства, глубокий доверительный контакт с духовником. Но необходима борьба и на психологическом уровне, в противном случае именно психологические проблемы могут стать теми кривыми зеркалами, в которых человек будет видеть не реальность происходящего, а только свое отражение, да и то кривое.
Психологию человека можно уподобить некоему оптическому прибору. Если он прозрачен, то его как бы нет. Сквозь него мы начинаем видеть мир во всем многообразии, и наш взгляд будет правдивым. Но если стекла этого прибора мутны, непрозрачны, то мы не увидим ничего, кроме разводов и смутных очертаний. Тогда наши отношения с реальностью будут ложными, мутными. Однако не стоит полагать, что человек горит желанием встретиться с реальностью. Ему мешает в этом и глубинный страх встречи с этой самой реальностью, и душевная леность, нежелание внутренне напрягаться, слабость воли. Еще в начале XX века русский философ Борис Вышеславцев говорил о том, что способность видеть реальность – самый удивительный дар сознания, данный человеку Богом. Но человек прилагает огромные усилия для того, чтобы убежать от реальности, не видеть ее такой, какая она есть, поскольку это требует внутреннего напряжения, работы души. Вышеславцев считал самыми здоровыми людьми на земле именно святых, поскольку они способны видеть реальность и при этом любить ее. А обычный человек кружится вокруг собственной оси, озабочен любовью к самому себе (точнее, потаканием), и потому его пугает встреча с реальностью, после которой уже не получится жить, как раньше, обслуживая только свой эгоцентризм. Человеку придется дотянуться до той высоты, которую мы и называем подлинно христианской, до той жертвенной христианской любви, которая никогда не бывает слепой, но «долготерпит, милосердствует, не ищет своего… и сорадуется истине», то есть не исчезает при встрече с ошибками и недостатками, а помогает их преодолеть! И если такое отношение к себе, к людям мы будем в себе поддерживать, то страсть гордости, смею надеяться, будет обходить нас стороной.
– Наверное, человеку надо помогать увидеть себя со всеми своими проблемами постепенно?
– Конечно. К счастью, человек и не может увидеть себя сразу таким, каков он есть. Я уже говорила, что духовный рост можно сравнить с восхождением на высокую гору. Ее вершина – то, каким должен в идеале быть человек. Но мы обычно топчемся у подножия, с трудом нащупывая те тропинки, которые могут повести нас наверх. Психология – поводырь, компас, помогающий не сбиться с пути. Она помогает увидеть в самом себе те недостатки, которые удерживают нас внизу, лишают возможности двигаться к желанным высотам. Психолог – это внимательный профессиональный собеседник, его задача – помочь человеку увидеть себя. Самому человеку это сделать очень трудно. Глаз слишком «замылен», а интеллект слишком виртуозно защищает от нежелательной правды.
Я сразу уточню, что психолог ни в коем случае не заменяет священника, он является помощником, а не конкурентом. Священник ведет человека по пути духовного спасения, задача его как пастыря – не позволить человеку сбиться с этого пути. Задача же психолога – работать с нижележащими уровнями, которые могут быть препятствием на пути спасения. Это и последствия неразрешенных, непроработанных жизненных кризисов, и неосознанные, вытесненные переживания, и еще многое другое. Нужно помочь человеку зрело, ответственно, по-взрослому отнестись к себе и к задачам собственной жизни.
– Нецерковному человеку это тоже помогает?
– Да, но многие мои клиенты, изначально невоцерковленные, а иногда и некрещеные, после такой работы приходят в Церковь, хотя я не ставлю перед собой такую цель. Чем серьезнее человек начинает относиться к своему внутреннему миру, чем глубже осознаёт необходимость личностного роста, тем больше вероятность, что на каком-то этапе он задумается о смысле жизни, о вечных ценностях, а эти размышления помогают прийти к Богу. Когда человек глобально выздоравливает, становится более целостным, гармоничным, он начинает слышать голос своей души, которая по природе христианка.
– Психологу наверняка приятно осознавать, что он кому-то помог, что эти люди потом рекомендуют его своим знакомым. И так в любой профессии. Чем бы человек ни занимался, он хочет, чтобы его как профессионала ценили. Но ведь где успех, там и соблазн возгордиться?
– Здесь все упирается в то, ради чего мы работаем, чем по-настоящему мотивированы. Если во главе угла будет стоять желание успеха, желание быть замеченным, то, безусловно, человек не устоит перед соблазном возгордиться в случае удачи. Но если главной целью, главным смыслом будет дело, которому человек посвящает свою жизнь, а вовсе не он сам на фоне выбранного дела, то такого соблазна нет. Точное понимание нравственных основ крайне важно именно в помогающих профессиях, поскольку мы имеем дело со страдающими людьми, и очень важно не превозноситься, поучая свысока. Необходимо иметь мужество войти в чужое страдание, быть по-настоящему сострадающим, встать рядом с чужим страданием, и тогда будет не до гордости – сердце наполнится любовью и желанием помочь. А это самое лучшее лекарство от гордости – способность покинуть себя, свою внутреннюю крепость, открыться другому человеку, его боли, его нужде, его беде.
Но не случайно я говорила, что страсть гордости крайне лукава, и даже в сострадании, в соприсутствии другому человек может соблазниться и подумать: вот какой я молодец, на какие я иду жертвы ради другого! Здесь важно быть честным с самим собой. Если такая мысль появляется, ее надо увидеть, пресечь, помолиться, попросить у Бога помощи в борьбе с этой страстью и делать свое дело дальше. Ведь задача любой страсти – увести человека за собой, соблазнить, отвлечь от реальности жизни. Вот и не надо этому поддаваться, но, не поддаваясь и не погружаясь, надо быть внимательным к самому себе. Духовное восхождение требует собранности, напряжения, просто внутреннее напряжение должно стать творческим состоянием. Тогда человек сможет преодолеть мир кривых зеркал, которые порождает гордость, и жить наполненной жизнью, в которой есть и любовь, и вера, и встреча с самим собой, и с другим человеком, а в конечном счете – с Богом!


