
Лера Манович
Стихи для Москвы
Предисловие
В наше время книга стихов – сувенир, затейливая вещица, амулет, сродни куску папируса или цилиндрической печати, вещь, по сути бесполезная. Пожалуй, к этой восхитительной бесполезности испытываешь своего рода уважение. Не то дело проза, для прозы всегда сохраняется надежда на открытие истин, разрушение вековых запретов, на то, что сыщется собственный читатель, оценит, расхвалит, и всё завертится. А поэтическая книга, что там, Господи, может найтись? У всех хороших поэтических книг читатель, примерно, один и тот же, и тираж примерно одинаковый. И написаны они все об одном, полагаю, о том единственном, о чём пишутся настоящие стихи.
Поэзия Леры Манович мне бесконечно дорога, немало стоит эта её выстраданная, сбивчивая речь, многострадальная и стыдливая, исполненная слабости, но способная ослепить, как вспышка магния – ослепить на мгновение, чтобы запечатлеть тебя навечно. Тут всё созвучно мне, словно нашептанное автором вселилось в мои сны, и время тут вытекает, словно рис из порванного мешка, и детство возвращается, становясь навязчивым, необычайно холодным и горьким, но оттого не менее дорогим, и на натянутых проводах прошлого непрерывно лают псы вечного сожаления.
Ты веришь этому сразу, ведь и ты тоже – человек, родившийся от железной змеи, и на твоих чемоданах соль, и тебе уже не двадцать, и, страшно сказать, не тридцать, и обоняние твоё обострилось настолько, что рассада у тебя пахнет кладбищем, и внутри тебя самого – изначальная глина творения. Веришь, когда закрашивая седину, ты стремишься потерять часть возраста, а теряешь лишь часть памяти, и слышишь навязчивый голос, повторяющий «следующая станция, следующая станция».
Ты веришь этому сразу, потому что, чёрт возьми, это изумительно честно, честно до неправдоподобия, а поймай ты хоть одно лукавство, одно украшательство, одну пошлинку, ты с такой непередаваемой лёгкостью швырнул бы эти тексты оземь и объявил бы – «плохими стихами», а ведь не можешь. Не можешь, и наблюдаешь с растерянностью и трепетом это движение девочки за счастьем, до последней страницы, не отрываясь, поскольку принимаешь этот срез чужой жизни – такой чистой и трепетной, такой чувственной и хрупкой, и такой исключительно трогательной.
И мир этот опознаваем, как христианский, но выдержанный в элементах изначального гностического Египта, когда ад это недосказанность, и состоит он из нерождённых текстов, ставших элементами Хаоса, а сам ты – Творец этого мира, и, попутно, его единственный обитатель, маленький ребёнок, стоящий на трамвайной остановке, с линией Жизни, начертанной на ладони – раз и навсегда.
Прочтите эту книгу и сохраните её, если и остались в наше время настоящие амулеты, то это, наверное, лучший из всех.
Амирам Григоров

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Счастье…»
Счастье
играет со мной в дженгу
каждый день
вынимаю из него день
ожидая
что все рухнет
«Это с птицей прощается ветер…»
Это с птицей прощается ветер
и крылом к подоконнику льнет,
это наши прозрачные дети
тянут руки из синих болот.
Это слово распалось на слоги,
первоцвет заблудился в весне,
это дремлет в приюте безногий
спотыкается в радостном сне.
Это рыба на сушу выходит,
задыхаясь на трудном пути,
это что-то проходит-проходит
и никак не умеет пройти.
ТОЛСТОЙ
Во сне
напялила цветные колготки.
Ноги были длинные и толстые
как трубы парохода,
как те деревья в Ясной Поляне,
куда нас привезли на пыльном автобусе,
и один маленький мальчик плакал и кричал,
что не хочет смотреть,
как жил великий писатель.
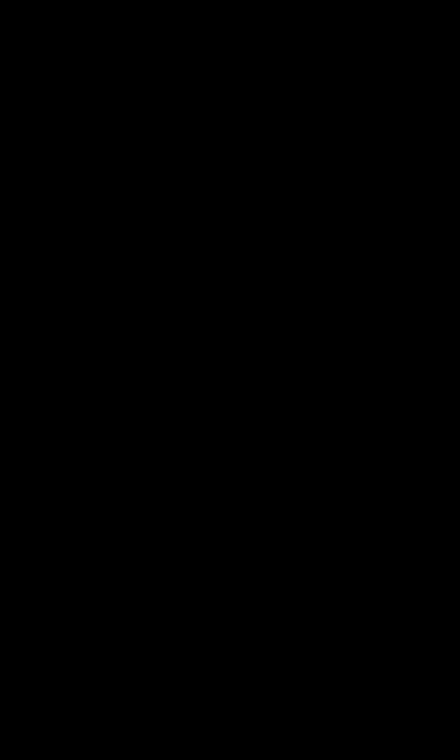
ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Моя первая учительница
Шалтай Болтай
Александра Васильевна
живет в синей папке с завязками
у нее есть только
черно-белый портрет
лицо в овале
окруженная
детскими овалами
она выглядит гордо
как королева-матка
в муравейнике школы
Спите спокойно
Александра Васильевна
нету у нас больше
ни спичек
ни сигарет
ни поцелуев под лестницей
мы вымерли
так и не вылупившись из яйца
захлебнулись в проявителе
нам не хватило вашего тепла
вашего света
и теперь мы
глянцевы и покорны.
«Вздыхал натруженный причал…»
Вздыхал натруженный причал
пустотами вбирая влагу,
и ты на cтанции встречал
с цветком завернутым в бумагу
На новой плоскости земли
почуяв новые тропинки
нас по булыжнику вели
невозмутимые ботинки
И город c площадью пустой
кустом топорщился у входа,
и в номер чистый и простой
звала усталая природа.
САМОЛЁТ
Всё медленно
невыносимо медленно
будто ты в самолете
идешь вслед
за тележкой с напитками,
глядя на номера рядов,
на шею бортпроводницы
со свежим укусом.
Рыба или мясо?
Они каждый раз
спрашивают об этом,
пока ты в воздухе
давай поиграем в эту игру на земле.
Я устала от мяса животных,
от птиц и рыб,
от людей снаружи
и внутри.
Приятно знать,
что спасательный жилет
под моим креслом.
ЭЛЕКТРИЧКА
Деревья и заборы пролетали
и деревень кладбищенские виды,
когда везла тебе из серых далей
окрепшую на воздухе обиду
в вагоне пахло пеплом и грибами,
старик никак не мог найти билета
и всё ровнял дрожащими руками
набухшую от осени газету
все электрички шли по расписанью,
и стрелочник в каморке привокзальной,
теряя смысл твердил, чтобы позвали
какую-то неведомую Таню
луна на вcё светила бесполезно
и поводя сухим янтарным веком,
cледила, как нутро змеи железной
исторгнет на платформу человека.
ПЬЯНЬ
Ты хотел мальчика
но у меня в животе
были только американские горки
ночь несла нас
как сломанная карусель
деревья сливались
птицы сливались
ты хотел темноты
но фонари крепко держали моё лицо
в своих желтых щупальцах
ночь кудахтала
и хлопала крыльями
пока утро не свернуло ей шею.
ПОМИНКИ
Дней убывающих холодное свеченье
у кухонной плиты хозяйки силуэт
и кофе-чай, и в вазочке печенье
а человека нет.
ОСЕНЬ
Стояли и курили, ждали чуда
но осень желтый выдала билет
покоя нет, и счастья тоже нет
мне б просто унести себя отсюда
троллейбус полз по мокрой мостовой
и шевелил ленивыми рогами
чужие угощали пирогами
своим хватало просто, что живой
любовь текла в израненном стволе
томилась в хирургических отходах
свистела в легких мертвых пароходов
и окликала лезвием в спине
в надломе поднебесной тетивы
тугую книгу мальчик раскрывает
и снова упоительно читает
мол, жили-были кто-то
но не мы.




