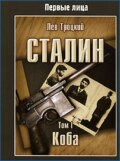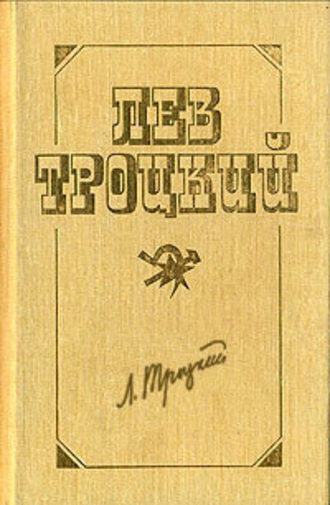
Лев Троцкий
Немецкая революция и сталинская бюрократия
Мы брали выше соотношение сил в парламентском разрезе. Но это кривое зеркало. Парламентское представительство угнетенного класса чрезвычайно преуменьшает его действительную силу, и наоборот: представительство буржуазии, даже за день до ее падения, все еще будет маскарадом ее мнимой силы. Только революционная борьба обнажает из-под всех прикрытий действительное соотношение сил. В прямой и непосредственной борьбе за власть пролетариат, если его не парализуют внутренний саботаж, австро-марксизм и все другие виды предательства, развивает силу, неизмеримо превосходящую его парламентское выражение. Напомним еще раз неоценимый урок истории: уже после того, как большевики овладели, и крепко овладели, властью, они в Учредительном собрании имели меньше трети голосов, вместе с левыми эсерами – меньше 40%. И несмотря на страшную хозяйственную разруху, на войну, на измену европейской, прежде всего германской социал-демократии, несмотря на реакцию усталости после войны, на рост термидорианских настроений, первое рабочее государство стоит на ногах 14 лет. Что же сказать о Германии? В тот момент, когда социал-демократический рабочий вместе с коммунистическим поднимутся для захвата власти, задача окажется на 9/10 разрешена.
Но все же, говорит Гильфердинг, – если б социал-демократия проголосовала против правительства Брюнинга и тем опрокинула его, это имело бы своим последствием приход фашистов к власти. В парламентской плоскости дело выглядит, пожалуй, так; но дело не стоит в парламентской плоскости. Отказаться от поддержки Брюнинга социал-демократия могла бы только в том случае, если б решила стать на путь революционной борьбы. Либо поддержка Брюнинга, либо борьба за диктатуру пролетариата. Третьего не дано. Голосование социал-демократии против Брюнинга сразу меняло бы соотношение сил – не на шахматной доске парламента, фигуры которой могли бы нечаянно оказаться под столом, а на арене революционной борьбы классов. Силы рабочего класса при таком повороте не удвоились бы, а удесятерились, ибо моральный фактор занимает не последнее место в борьбе классов, особенно на больших исторических поворотах. Нравственный ток высокого напряжения прошел бы по толщам народа, слой за слоем. Пролетариат уверенно сказал бы себе, что он и только он призван дать ныне иное, высшее направление жизни этой великой нации. Распад и разложение в армии Гитлера начались бы еще до решающих боев. Избегнуть борьбы, конечно, нельзя было бы; но при твердой воле добиться победы, при смелом наступлении победа была бы взята несравненно легче, чем представляет себе теперь самый крайний революционный оптимист.
Не хватает для этого немногого: поворота социал-демократии на путь революции. Надеяться на добровольный поворот вождей после опыта 1914-1932 годов было бы самой смехотворной из всех иллюзий. Другое дело – большинство социал-демократических рабочих: они могут совершить поворот и совершат его, – надо им только помочь. Но это будет поворот не только против буржуазного государства, но и против верхов собственной партии.
Тут наш австро-марксист, которому «нечего прибавлять» к нашим словам, попытается снова противопоставить нам цитаты из наших собственных работ: разве не писали мы, в самом деле, что политика сталинской бюрократии представляет собою цепь ошибок, разве не клеймили мы участие компартии в референдуме Гитлера? Писали и клеймили. Но ведь боремся мы со сталинским руководством Коминтерна именно потому, что оно неспособно разбить социал-демократию, вырвать из-под ее влияния массы, освободить локомотив истории от ржавого тормоза. Метаниями, ошибками, бюрократическим ультиматизмом сталинская бюрократия консервирует социал-демократию, каждый раз снова и снова позволяя ей подняться на ноги.
Компартия есть пролетарская, антибуржуазная партия, хотя и ложно руководимая. Социал-демократия, несмотря на рабочий состав, есть полностью буржуазная партия, в «нормальных» условиях очень умело руководимая с точки зрения буржуазных целей, но никуда негодная в условиях социального кризиса. Буржуазный характер партии социал-демократические вожди сами вынуждены признавать, хотя и против своей воли. По поводу кризиса и безработицы Тарнов повторяет старые фразы о «позоре капиталистической цивилизации», как протестантский поп говорит о грехе богатства; по поводу социализма Тарнов говорит так же, как поп говорит о загробном воздаянии; но совсем по иному он высказывается о конкретных вопросах: «если бы 14 сентября этот призрак (безработицы) не стоял возле избирательной урны, этот день в истории Германии получил бы иную физиономию» (доклад на лейпцигском съезде). Социал-демократия потеряла избирателей и мандаты, потому что капитализм, через кризис, обнаружил свое подлинное лицо. Кризис не укрепил партию «социализма», а, наоборот, ослабил ее, как он ослабил обороты торговли, кассы банков, самоуверенность Хувера и Форда, прибыли князя Монако и пр. Самые оптимистические оценки конъюнктуры приходится ныне искать не в буржуазных газетах, а в социал-демократических. Могут ли быть более бесспорные доказательства буржуазного характера партии? Если болезнь капитализма означает болезнь социал-демократии, то надвигающаяся смерть капитализма не может не означать близкую смерть социал-демократии. Партия, которая опирается на рабочих, но служит буржуазии, не может, в период наивысшего обострения классовой борьбы, не чувствовать дыхания могилы.
II. ДЕМОКРАТИЯ И ФАШИЗМ
XI пленум ИККИ признал необходимым покончить с теми ошибочными воззрениями, которые опираются на «либеральную конструкцию противоречия между фашизмом и буржуазной демократией, как и между парламентскими формами диктатуры буржуазии и открыто фашистскими формами»… Суть этой сталинской философии очень проста: из марксистского отрицания абсолютного противоречия она выводит отрицание противоречия вообще, хотя бы и относительного. Это типичная ошибка вульгарного радикализма. Но если между демократией и фашизмом нет никакого противоречия, даже в области форм господства буржуазии, то эти два режима должны попросту совпадать. Отсюда вывод: социал-демократия = фашизм. Почему-то, однако, социал-демократию называют социал-фашизм. Что, собственно, означает в этой связи «социал», нам до сих пор так и не объяснили [2].
Однако, природа вещей не меняется решениями пленумов ИККИ. Между демократией и фашизмом есть противоречие. Оно совсем не «абсолютно» или, говоря языком марксизма, совсем не означает господства двух непримиримых классов. Но оно означает разные системы господства одного и того же класса. Эти две системы: парламентски-демократическая и фашистская, опираются на разные комбинации угнетенных и эксплуатируемых классов и неминуемо приходят в острое столкновение друг с другом.
Социал-демократия, ныне главная представительница парламентарно-буржуазного режима, опирается на рабочих. Фашизм опирается на мелкую буржуазию. Социал-демократия не может иметь влияния без массовых рабочих организаций. Фашизм не может утвердить свою власть иначе, как разгромив рабочие организации. Основной ареной социал-демократии является парламент. Система фашизма основана на разрушении парламентаризма. Для монополистской буржуазии парламентский и фашистский режимы представляют только разные орудия ее господства: они прибегают к тому или другому, в зависимости от исторических условий. Но для социал-демократии, как и для фашизма, выбор того или другого орудия имеет самостоятельное значение, более того, является вопросом их политической жизни и смерти.
Очередь для фашистского режима наступает тогда, когда «нормальных» военно-полицейских средств буржуазной диктатуры, вместе с их парламентским прикрытием, становится недостаточно для удержания общества в равновесии. Через фашистскую агентуру капитал приводит в движение массы ошалевшей мелкой буржуазии, банды деклассированных, деморализованных люмпенов, все те бесчисленные человеческие существования, которые финансовый капитал сам же довел до отчаяния и бешенства. От фашизма буржуазия требует полной работы: раз она допустила методы гражданской войны, она хочет иметь покой на ряд лет. И фашистская агентура, пользуясь мелкой буржуазией, как тараном, и сокрушая все препятствия на пути, доводит работу до конца. Победа фашизма ведет к тому, что финансовый капитал прямо и непосредственно захватывает в стальные клещи все органы и учреждения господства, управления и воспитания: государственный аппарат с армией, муниципалитеты, университеты, школы, печать, профессиональные союзы, кооперативы. Фашизация государства означает не только муссолинизацию форм и приемов управления, – в этой области перемены играют в конце концов второстепенный характер, – но, прежде всего и главным образом, разгром рабочих организаций, приведение пролетариата в аморфное состояние, создание системы глубоко проникающих в массы органов, которые должны препятствовать самостоятельной кристаллизации пролетариата. В этом именно и состоит сущность фашистского режима.
Сказанному нисколько не противоречит тот факт, что между демократической и фашистской системами устанавливается в известный период переходный режим, совмещающий черты той и другой: таков вообще закон смены двух социальных режимов, даже и непримиримо враждебных друг другу. Бывают моменты, когда буржуазия опирается и на социал-демократию и на фашизм, т. е. когда она одновременно пользуется и своей соглашательской и своей террористической агентурой. Таково было, в известном смысле, правительство Керенского в последние месяцы своего существования: оно полуопиралось на Советы и в то же время находилось в заговоре с Корниловым. Таково правительство Брюнинга, пляшущее на канате между двумя непримиримыми лагерями, с шестом исключительных декретов в руках. Но подобное состояние государства и правительства имеет временный характер. Оно знаменует переходный период, когда социал-демократия уже близка к исчерпанию своей миссии, а в то же время ни коммунизм, ни фашизм еще не готовы к захвату власти.
Итальянские коммунисты, давно уже вынужденные заниматься вопросом о фашизме, не раз протестовали против столь распространенного злоупотребления этим понятием. В эпоху VI конгресса Коминтерна Эрколи все еще развивал по вопросу о фашизме взгляды, которые теперь считаются «троцкистскими». Определяя фашизм, как самую последовательную и до конца доведенную систему реакции, Эрколи пояснял: «это утверждение опирается не на жестокие террористические акты, не на большое число убитых рабочих и крестьян, не на свирепость различных родов пыток, широко применявшихся, не на суровости приговоров; оно мотивируется систематическим уничтожением всех и всяких форм самостоятельной организации масс». Эрколи тут совершенно прав: суть и назначение фашизма состоит в полном упразднении рабочих организаций и в противодействии их возрождению. В развитом капиталистическом обществе этой цели нельзя достигнуть одними полицейскими средствами. Единственный путь для этого: противопоставить напору пролетариата – в момент его ослабления – напор отчаявшихся мелкобуржуазных масс. Именно эта особая система капиталистической реакции и вошла в историю под именем фашизма.
«Вопрос об отношениях, существующих между фашизмом и социал-демократией, – писал Эрколи, – принадлежит к той же области (непримиримости фашизма с рабочими организациями). В этом отношении фашизм ярко отличается от всех других реакционных режимов, которые укреплялись до настоящего времени в современном капиталистическом мире. Он отбрасывает всякий компромисс с социал-демократией, он преследовал ее свирепо; он отнял у нее всякую возможность легального существования; он вынудил ее эмигрировать».
Так гласила статья, напечатанная в руководящем органе Коминтерна! После того Мануильский подсказал Молотову великую идею «третьего периода». Франция, Германия и Польша были откомандированы в «первый ряд революционного наступления». Непосредственной задачей было объявлено завоевание власти. А так как перед лицом пролетарского восстания все партии, кроме коммунистической, контрреволюционны, то различать между фашизмом и социал-демократией не было уже больше нужды. Теория социал-фашизма была утверждена. Чиновники Коминтерна перевооружились. Эрколи поспешил доказать, что истина ему дорога, но Молотов дороже, и… написал доклад в защиту теории социал-фашизма. «Итальянская социал-демократия – заявлял он в феврале 1930 года – фашизируется с крайней легкостью». Увы, с еще большей легкостью сервилизируются чиновники официального коммунизма.
Нашу критику теории и практики «третьего периода» объявили, как полагается, контрреволюционной. Жестокий опыт, дорого обошедшийся пролетарскому авангарду, заставил, однако, и в этой области произвести поворот. «Третий период» был уволен в отставку, как и сам Молотов – из Коминтерна. Но теория социал-фашизма осталась, как единственный зрелый плод третьего периода. Здесь перемен не может быть: с третьим периодом связал себя только Молотов; в социал-фашизме запутался сам Сталин.
Эпиграфом для своих исследований о социал-фашизме «Роте Фане» выбирает слова Сталина: «Фашизм есть боевая организация буржуазии, которая опирается на активную поддержку социал-демократии. Социал-демократия есть объективно умеренное крыло фашизма». Как обычно бывает у Сталина, когда он пытается обобщать, первая фраза противоречит второй. Что буржуазия опирается на социал-демократию и что фашизм есть боевая организация буржуазии, совершенно бесспорно и давно уже сказано. Но из этого вытекает лишь, что социал-демократия, как и фашизм, являются орудиями крупной буржуазии. Каким образом социал-демократия оказывается при этом еще «крылом» фашизма, понять невозможно. Не более глубокомысленно и другое определение того же автора: фашизм и социал-демократия не противники, а близнецы. Близнецы могут быть жестокими противниками; с другой стороны, союзники вовсе не должны родиться в один и тот же день от общей матери. В конструкции Сталина отсутствует даже формальная логика, не говоря о диалектике. Сила этой конструкции в том, что никто не смеет ей возразить.
Между демократией и фашизмом нет различия «в классовом содержании», поучает вслед за Сталиным Вернер Гирш («Die Internationale», январь 1932). Переход от демократии к фашизму может иметь характер «органического процесса», т. е. произойти «постепенно и холодным путем». Это рассуждение звучало бы поразительно, если б эпигонство не отучило нас поражаться.
Между демократией и фашизмом нет «классового различия». Это должно означать, очевидно, что демократия имеет буржуазный характер, как и фашизм. Об этом мы догадывались и до января 1932 года. Но господствующий класс не живет в безвоздушном пространстве. Он стоит в определенных отношениях к другим классам. В «демократическом» режиме развитого капиталистического общества буржуазия опирается прежде всего на прирученный реформистами рабочий класс. Наиболее законченно эта система выражена в Англии, как при лейбористском, так и при консервативном правительстве. В фашистском режиме, по крайней мере, на первой его стадии, капитал опирается на мелкую буржуазию, разрушающую организации пролетариата. Такова Италия! Есть ли разница в «классовом содержании» этих двух режимов? Если ставить вопрос только о господствующем классе, то разницы нет. Если же брать положение и взаимоотношение всех классов под углом зрения пролетариата, то разница оказывается весьма велика.
В течение многих десятилетий рабочие строили внутри буржуазной демократии, используя ее и борясь с нею, свои укрепления, свои базы, свои очаги пролетарской демократии: профсоюзы, партии, образовательные клубы, спортивные организации, кооперативы и пр. Пролетариат может прийти к власти не в формальных рамках буржуазной демократии, а только революционным путем: это одинаково доказано и теорией и опытом. Но именно для революционного пути ему необходимы опорные базы рабочей демократии внутри буржуазного государства. К созданию таких баз и сводилась работа Второго Интернационала в ту эпоху, когда он выполнял еще прогрессивную историческую работу.
Фашизм имеет своим основным и единственным назначением: разрушить до фундамента все учреждения пролетарской демократии. Имеет это для пролетариата «классовое значение» или не имеет? Пусть высокие теоретики поразмыслят над этим. Назвав режим буржуазным, – что бесспорно, – Гирш, как и его учителя, забывают о мелочи: о месте пролетариата в этом режиме. Исторический процесс они подменяют голой социологической абстракцией. Но борьба классов ведется на земле истории, а не в стратосфере социологии. Исходным моментом борьбы с фашизмом является не абстракция демократического государства, а живые организации самого пролетариата, в которых сосредоточен весь его опыт и которые подготовляют его будущее.
Что переход от демократии к фашизму может иметь «органический» и «постепенный» характер, означает, очевидно, ни что иное, как то, что у пролетариата могут отнять не только все его материальные завоевания – известный уровень жизни, социальное законодательство, гражданские и политические права, но и основное орудие этих завоеваний, т. е. его организации, – без потрясений и без боев. Переход к фашизму «на холодном пути» подразумевает, таким образом, самую страшную политическую капитуляцию пролетариата, какую вообще только можно себе представить.
Теоретические рассуждения Вернера Гирша не случайны: развивая далее теоретические вещания Сталина, они обобщают в то же время всю нынешнюю агитацию компартии. Главные ее усилия ведь на то и направлены, чтобы доказать: между режимом Брюнинга и режимом Гитлера разницы нет. В этом Тельман и Реммеле видят сейчас квинтэссенцию большевистской политики.
Дело не ограничивается Германией. Мысль о том, что победа фашистов не внесет ничего нового, усердно пропагандируется теперь во всех секциях Коминтерна. В январской книжке французского журнала «Тетради большевизма» мы читаем: «Троцкисты, действуя на практике, как Брейтшайд, воспринимают знаменитую теорию социал-демократии о меньшем зле, согласно которой Брюнинг не так плох, как Гитлер, согласно которой менее неприятно умереть с голоду под Брюнингом, чем под Гитлером, и бесконечно предпочтительнее быть застреленным Гренером, чем Фриком». Эта цитата – не самая глупая, хотя, надо отдать справедливость, она достаточно глупа. Однако, увы, она выражает самую суть политической философии вождей Коминтерна.
Дело в том, что сталинцы сравнивают два режима под углом зрения вульгарной демократии. Действительно, если подойти к режиму Брюнинга с формальным «демократическим» критерием, то вывод получится бесспорный: от гордой Веймарской конституции остались кости да кожа. Но для нас это еще не решает вопроса. Надо взглянуть на вопрос с точки зрения пролетарской демократии. Это есть единственный надежный критерий также и по вопросу о том, где и когда «нормальная» полицейская реакция загнивающего капитализма сменяется фашистским режимом.
«Лучше» ли Брюнинг Гитлера (симпатичнее, что ли?), этот вопрос нас, признаться, мало занимает. Но стоит обозреть карту рабочих организаций, чтобы сказать: в Германии фашизм еще не победил. Еще гигантские препятствия и силы стоят на пути к его победе.
Нынешний режим Брюнинга есть режим бюрократической диктатуры, точнее: диктатуры буржуазии, осуществляемой военно-полицейскими средствами. Фашистская мелкая буржуазия и пролетарские организации как бы уравновешивают друг друга. Если бы рабочие организации были объединены Советами; если бы заводские комитеты боролись за контроль над производством, – можно было бы говорить о двоевластии. Вследствие расколотости пролетариата и тактической беспомощности его авангарда этого еще нет. Но самый факт существования могущественных рабочих организаций, которые, при известных условиях, способны дать сокрушительный отпор фашизму, не подпускает Гитлера к власти и сообщает известную «независимость» бюрократическому аппарату.