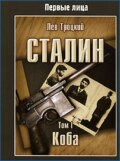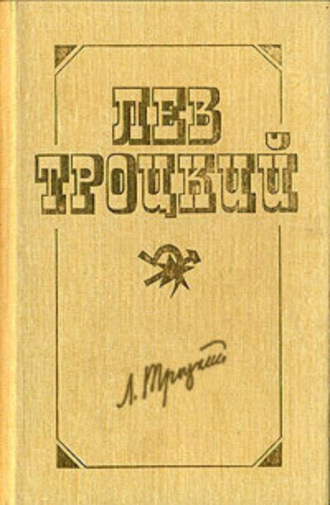
Лев Троцкий
Вокруг Октября
– Значит, все-таки обманули. Выгадали 5 дней… Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж, значит, ничего не остается, как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их.
Я возражал в том смысле, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление.
– Но ведь это значит сдать Двинск, потерять много артиллерии и пр.?
– Конечно, это означает новые жертвы. Но нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский – с другой.
– Нет, – возразил Ленин. – Дело, конечно, не в Двинске, но сейчас нельзя терять ни одного часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать. Откладывать нельзя: и так у нас уже отняли 5 дней, на которые я рассчитывал. А этот зверь прыгает быстро.
Центральным Комитетом было вынесено решение о посылке телеграммы с выражением немедленного согласия на подписание Брест-Литовского договора. Соответственная телеграмма была отправлена.
– Мне кажется, – сказал я в частном разговоре Владимиру Ильичу, – что политически было бы целесообразно, если бы я, как наркоминдел, подал в отставку.
– Зачем? Мы ведь этих парламентских приемов заводить не будем.
– Но моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики и усилит их доверие к нашей действительной на этот раз готовности подписать мир и соблюдать его.
– Пожалуй, – сказал Ленин, размышляя. – Это серьезный политический довод.
Не припоминаю, в какой момент получилось сообщение о десанте немецких войск в Финляндии и о начавшемся разгроме финских рабочих. Помню, я столкнулся с Владимиром Ильичом в коридоре, недалеко от его кабинета. Он был чрезвычайно взволнован. Я не видал его таким никогда, ни раньше, ни позже.
– Да, – сказал он, – по-видимому, придется драться, хоть и нечем. Но иного выхода на этот раз, кажется, нет…
Такова была первая реакция Ленина на телеграмму о разгроме финской революции. Но уже минут через 10–15, когда я зашел к нему в кабинет, он сказал:
– Нет, нельзя менять политики. Наше выступление не спасло бы революционной Финляндии, но наверняка погубило бы нас. Всем, чем можно, поможем финским рабочим, но не сходя с почвы мира. Не знаю, спасет ли нас это теперь. Но это во всяком случае, единственный путь, на котором еще возможно спасение.
И спасение действительно оказалось на этом пути.
* * *
Решение не подписывать мира вовсе не вытекало, как теперь иной раз пишут, из абстрактного соображения, будто вообще немыслимо соглашение между нами и империалистами. Достаточно посмотреть в книжке товарища Овсянникова произведенные Лениным в высшей степени поучительные голосования по этому вопросу, чтобы убедиться, что сторонники прощупывательной формулы «ни войны ни мира» ответили положительно на вопрос, вправе ли мы, как революционная партия, подписать в известных условиях «похабный» мир. На самом деле мы говорили: если есть хоть 25 шансов на 100, что Гогенцоллерн не решится или не сможет воевать с нами, нужно, хотя бы и с известным риском, пойти на этот опыт.
Три года спустя мы шли на риск – на этот раз по инициативе Ленина – прошупывания штыком буржуазно-шляхетской Польши. Мы были отброшены. В чем тут разница с Брест-Литовском? Принципиальной разницы нет, но есть разница в степени риска.
Помнится, товарищ Радек писал как-то, что могущество тактической мысли Ленина ярче всего выражается в размахе между подписанием Брест-Литовского мира и походом на Варшаву. Все мы теперь знаем, что поход на Варшаву был ошибкой, которая обошлась страшно дорого. Она не только привела нас к Рижскому миру, который отрезал нас от Германии, но и дала, наряду с другими событиями того же периода, могущественный толчок консолидации буржуазной Европы. Контрреволюционное значение Рижского договора для судеб Европы можно яснее всего понять, представив себе обстановку хотя бы одного только 1923 года, при условии, что у нас с Германией имелась бы общая граница: слишком многое говорит за то, что развитие событий в Германии развернулось бы в этом случае совершенно другим путем. Нельзя сомневаться также и в том, что в самой Польше революционное движение пошло бы несравненно более благоприятным темпом без нашей военной интервенции и ее крушения. Ленин сам, насколько я знаю, придавал огромное значение «варшавской» ошибке. И тем не менее Радек в своей оценке ленинского тактического размаха совершенно прав. Разумеется, после того как «прощупывание» трудящихся масс Польши было произведено и не дало ожидавшихся результатов; после того как нас отбросили назад – и не могли не отбросить, ибо при сохранении спокойствия в Польше наш поход на Варшаву был только партизанским набегом; после того как мы оказались вынужденными подписать Рижский мир, – нетрудно сделать вывод, что правы были противники похода и что лучше было бы остановиться вовремя и обеспечить за собою общую границу с Германией. Но ведь все это стало ясно лишь задним числом. А то, что знаменательно для Ленина в идее варшавского похода, это – мужество замысла. Риск был велик, но цель превосходила риск. Возможная неудача плана не несла с собою опасности самому существованию Советской республики, а только ее ослабление…
Можно предоставить будущему историку оценивать, стоило ли рисковать ухудшением условий Брест-Литовского мира в целях демонстрации перед европейскими рабочими. Но совершенно очевидно, что, после того как эта демонстрация была проделана, должно и обязательно было подписать навязанный мир. И здесь отчетливость позиции Ленина и его могучий напор спасли положение.
– А если немцы будут все же наступать? А если двинутся на Москву?
– Отступим дальше на восток, на Урал, заявляя о готовности подписать мир. Кузнецкий бассейн богат углем. Создадим УралоКузнецкую республику, опираясь на уральскую промышленность и на кузнецкий уголь, на уральский пролетариат и на ту часть московских и питерских рабочих, которых удастся увезти с собой. Будем держаться. В случае нужды уйдем еще дальше на восток, за Урал. До Камчатки дойдем, но будем держаться. Международная обстановка будет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-Кузнецкой республики снова расширимся и вернемся в Москву и Петербург. А если мы ввяжемся сейчас без смысла в революционную войну и дадим вырезать цвет рабочего класса и нашей партии, тогда уж, конечно, никуда не вернемся.
В тот период Урало-Кузнецкая республика занимала большое место в аргументации Ленина. Он иногда прямо-таки огорошивал оппонентов вопросом: «А вы знаете, что в Кузнецком бассейне у нас огромные залежи угля? В соединении с уральской рудой и сибирским хлебом мы имеем новую базу». Оппонент, не всегда ясно себе представлявший, где находится Кузнецк и какое отношение имеет тамошний уголь к последовательному большевизму и революционной войне, таращил глаза или смеялся от неожиданности, полагая, что Ильич не то шутит, не то хитрит. А на самом деле Ленин нисколько не шутил, а – верный себе – продумывал обстановку до ее крайних последствий и наихудших практических выводов. Концепция Урало-Кузнецкой республики ему органически необходима была, чтобы укрепить себя и других в убеждении, что ничто еще не потеряно и что для стратегии отчаяния нет и не может быть места.
До Урало-Кузнецкой республики дело, как известно, не дошло, и хорошо, что не дошло. Но можно сказать все же, что неосуществившаяся Урало-Кузнецкая республика спасла РСФСР.
Во всяком случае, понять и оценить брест-литовскую тактику Ленина можно, только связав ее с его октябрьской тактикой. Быть против Октября и за Брест значило в обоих случаях быть, по существу, выразителем одних и тех же капитулянтских настроений. Вся суть в том, что Ленин развил за брест-литовскую капитуляцию ту же самую неистощимую революционную энергию, которая обеспечила партии победу в Октябре. Именно это естественное, органическое сочетание Октября с Брестом, гигантского размаха с мужественной осторожностью, напора с глазомером дает меру ленинского метода и ленинской силы.