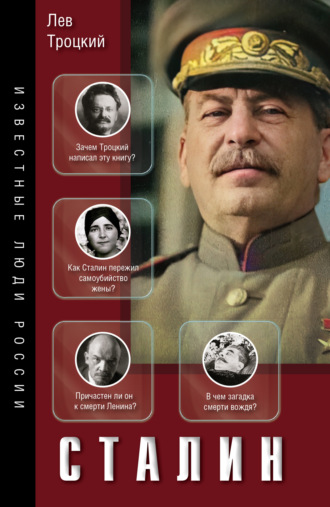
Лев Троцкий
Сталин
Иосиф вступил в подготовительное училище одиннадцати лет, в 1890 году, перешел через четыре года в семинарию и покинул ее в 1899 году, всего пробыв, таким образом, в духовных школах девять лет. Грузины созревают рано. Иосиф вышел из семинарии взрослым человеком, «без диплома, – пишет Гогохия, – но с определенными взглядами на жизнь». Девятилетний период богословской учебы не мог не наложить глубокий отпечаток на его характер, на склад его мыслей, начиная с его стиля, который составляет существенную часть личности.
Языком семьи и окружающей среды был грузинский. Мать и в старости не знала русского языка. Вряд ли иначе обстояло дело с отцом. Мальчик учился русской речи только в школе, где большинство учащихся составляли опять-таки грузины. Духа русского языка, его свободной природы, его внутреннего ритма Иосиф так и не усвоил. Но это только одна сторона дела. Чужому языку, который призван был заменить ему родной, Иосиф учился в искусственной атмосфере духовной школы. Обороты русской речи он ощущал не как естественный и неотъемлемый духовный орган для выражения собственных чувств и мыслей, а как искусственное и внешнее орудие для передачи чуждой, а затем и ненавистной ему мистики. В последующей жизни он оказался тем менее способен ассимилировать и, так сказать, интимизировать язык, уточнить и облагородить его, что человеческая речь вообще призвана была служить ему гораздо больше для того, чтобы скрывать или прикрашивать свои мысли и чувства, чем для того, чтобы выражать их. В результате русский язык навсегда остался для него не только полуиностранным и приблизительным, но, что гораздо хуже для сознания, условным и натянутым.
Можно без труда понять, что с того времени, как Иосиф внутренне порвал с религией, ему стало нестерпимо изучать гомилетику и литургику. Гораздо труднее понять то обстоятельство, что ему в течение столь долгого времени удавалось вести двойственное существование. Если исходить из рассказа о том, что Coco уже в 13 лет противопоставлял Дарвина Библии, тогда придется сделать вывод, что он после этого еще в течение семи лет терпеливо изучал богословие, хотя и с убывающим рвением. Сам Сталин относит зарождение своего революционного миросозерцания к пятнадцатому-шестнадцатому году жизни. Вполне возможно, что он на два-три года раньше отвернулся от религии, чем повернулся к социализму. Но если даже допустить, что то и другое произошло одновременно, окажется, что молодой атеист в течение целых пяти лет продолжал изучать тайны православия.
Правда, в царских учебных заведениях многим свободомыслящим юношам приходилось вести двойственную жизнь. Но это относится главным образом к университетам, где режим отличался все же значительной свободой и где официальное лицемерие сводилось к малообременительному ритуальному минимуму. В средних школах разлад переживался труднее, но зато он длился обыкновенно недолго – год-два, когда юноша видел уже вблизи двери университета с его относительной академической свободой. Положение молодого Джугашвили имело исключительный характер: он учился не в светском учебном заведении, где воспитанники находились под надзором только часть дня и где так называемый «закон божий» составлял фактически один из второстепенных предметов, а в закрытом учебном заведении, где вся жизнь была подчинена требованиям церкви и где каждый шаг совершался на глазах монахов. Чтоб выдержать этот режим двойственности в течение семи или хотя бы пяти лет, нужна была исключительная осторожность и совершенно незаурядная способность к притворству. За годы пребывания в семинарии никто не отмечает с его стороны какого-либо открытого протеста, смелого акта возмущения. Иосиф издевался над учителями за спиной, но не дерзил им в глаза. Он не наносил пощечин педагогам-шовинистам, как некогда Джибладзе; самое большое, он отвечал им «презрительной усмешкой». Его враждебность имела сдержанный, подспудный, выжидательный характер. Семинаристу Помяловскому период ученической жизни привил, как мы слышали, «недоверчивость, скрытность, озлобление и ненависть к окружающей среде». Почти то же, но гораздо резче говорит Иремашвили о Кобе: «В 1899 году он покинул семинарию, унося с собой злобную, лютую вражду против школьного управления, против буржуазии, против всего, что существовало в стране и воплощало царизм. Ненависть против всякой власти».
«Профессиональный революционер»
В 1883 году, когда Coco шел четвертый год, нефтяная столица Кавказа, Баку, была соединена рельсами с черноморским портом Батумом. Наряду с горным хребтом Кавказ нашел свой железнодорожный хребет. За нефтяной промышленностью стала подниматься марганцевая. В 1896 году, когда Coco уже начал мечтать об имени Кобы, вспыхнула первая стачка в железнодорожных мастерских Тифлиса.
В отношении развития промышленности, как и идей, Кавказ шел на буксире у центральной России. В течение второй половины девяностых годов марксизм становится господствующей тенденцией в среде радикальной интеллигенции, начиная с Петербурга. Когда Коба еще изнывал в спертой атмосфере семинарского богословия, социал-демократическое движение уже успело принять широкие размеры. Бурная волна стачек прокатывается по всей стране. Первые сотни, затем тысячи интеллигентов и рабочих подвергаются арестам и высылкам. В революционном движении открывается новая глава.
В 1891 году, когда Коба стал членом тифлисского Комитета, в Закавказье числилось около 40000 промышленных рабочих на девяти тысячах предприятий, не считая ремесленных мастерских. Ничтожное число, если принять во внимание размеры и богатство края, омываемого двумя морями; но опорные пункты социал-демократической пропаганды уже были налицо. Фонтаны бакинской нефти, первые выемки чиатурского марганца, животворящая работа железной дороги дали толчок не только стачечному движению рабочих, но и теоретической мысли грузинской интеллигенции. Либеральная газета «Квали» констатировала, скорее с удивлением, чем с враждебностью, выступление на политической арене представителей новой формации: «В грузинской литературе появились с 1893 года одиночки из молодых, с необычным направлением и своеобразной программой; они являются приверженцами теории экономического материализма». В отличие от дворянски-прогрессивного и буржуазно-либерального направлений, господствовавших в предшествующие десятилетия, марксисты получили кличку «Месаме-даси», что значит «третья группа». Во главе ее стоял Ной Жордания, будущий лидер кавказских меньшевиков и будущий глава эфемерной демократической Грузии.
Мелкобуржуазная интеллигенция России, стремившаяся вырваться из гнета полицейщины и отсталости, из безличного муравейника, каким было старое общество, вынуждена была, ввиду крайне запоздалого развития страны, перепрыгивать через промежуточные ступени. Протестантизм и демократия, под знаменем которых происходили революции XVII и XVIII веков на Западе, давно успели превратиться в консервативные доктрины. Полунищая кавказская богема никак не могла обольщаться либеральными абстракциями. Ее вражда к господствующим и привилегированным принимала вполне естественную социальную окраску. Для предстоявших ей битв интеллигенции нужна была свежая, еще не скомпрометированная теория. Она нашла ее в западном социализме, в его высшем научном выражении – марксизме. Дело шло теперь уже не о равенстве перед богом и не о равенстве перед законом, а об экономическом равенстве. В действительности же при помощи отдаленной социалистической перспективы интеллигенция страховала свою борьбу против царя от скептицизма, который преждевременно угрожал ей со стороны опыта западной демократии. Этими условиями и обстоятельствами определялся характер тогдашнего русского, тем более кавказского марксизма, очень ограниченного и примитивного, ибо приспособленного к политическим нуждам отсталой провинциальной интеллигенции. Теоретически малореальный сам по себе, этот марксизм оказывал интеллигенции, однако, вполне реальную услугу, воодушевляя ее на борьбу с царизмом.
Критическим острием своим марксизм 90-х годов был направлен прежде всего против выродившегося народничества, которое суеверно боялось капиталистического развития, надеясь на «особые», привилегированные исторические пути для России. Защита прогрессивной миссии капитализма составляла поэтому главную тему интеллигентского марксизма, отодвигая нередко на задний план проблему классовой борьбы пролетариата. Ной Жордания усердно проповедовал в легальной печати единство интересов «нации»: он имел при этом в виду необходимость союза пролетариата и буржуазии против самодержавия. Идея этого союза станет впоследствии краеугольным камнем политики меньшевиков и приведет, в конце концов, к их крушению. Официальные советские историки и сейчас еще треплют на все лады давно опрокинутую ходом борьбы концепцию Жордания, закрывая при этом глаза на то, что через три десятилетия Сталин применит политику меньшевиков не только в Китае, но и в Испании, и даже во Франции, т. е. в таких условиях, где она имеет неизмеримо меньше оправдания, чем в полуфеодальной Грузии, под гнетом царизма.
Идеи Жордания и в те годы не встречали, однако, безраздельного признания. К Месаме-даси примкнул в 1895 году Саша Цулукидзе, ставший одним из наиболее выдающихся пропагандистов левого крыла. Он умер от туберкулеза 29 лет в 1905 году, оставив ряд публицистических работ, свидетельствующих о значительной марксистской подготовке и литературном даровании. В 1897 году вступил в ряды Месаме-даси Ладо Кецховели, бывший воспитанник горийского училища и тифлисской семинарии, как и Коба, но на несколько лет старше его и его руководитель на первых шагах революционного пути. Енукидзе вспоминал в 1923 году, когда мемуаристы еще пользовались достаточной свободой, что «Сталин много раз с удивлением подчеркивал выдающиеся способности покойного товарища Кецховели, который в то время умел правильно ставить вопросы в духе революционного марксизма». Это свидетельство, особенно слова об «удивлении», опровергают позднейшие рассказы о том, что руководство уже в тот период принадлежало Кобе и что Цулукидзе и Кецховели были только его «помощниками». Надо еще прибавить, что статьи молодого Цулукидзе и по содержанию, и по форме стояли значительно выше всего того, что двумя-тремя годами позже писал Коба.
Заняв в Месаме-даси место на левом крыле, Кецховели привлек через год молодого Джугашвили. Дело шло, собственно, не о революционной организации, а о кружке единомышленников, группировавшихся вокруг легальной газеты «Квали» (Борозда), которая в 1896 году перешла из рук либералов в руки молодых марксистов с Жордания во главе. «Мы по секрету часто навещали редакцию „Квали“, – рассказывает Иремашвили. – Коба несколько раз ходил с нами, но затем издевался над членами редакции». Разногласия в тогдашнем марксистском лагере, как ни зачаточны они еще были, имели, однако, вполне реальный характер. Умеренное крыло не верило по-настоящему в революцию, еще менее – в ее близость, рассчитывая на длительный «прогресс», и тяготело к союзу с буржуазным либерализмом. Левое крыло, наоборот, искренне надеялось на революционный подъем масс и потому стояло за более самостоятельную политику. По существу левое крыло состояло из революционных демократов, попадавших в естественную оппозицию к «марксистским» полулибералам. К левому крылу должен был инстинктивно тяготеть Coco и по личному характеру, и по условиям среды, из которой вышел. Плебейский демократ провинциального типа, вооруженный весьма примитивной «марксистской» доктриной, таким он вошел в революционное движение, и таким он, по существу, остался до конца, несмотря на фантастическую орбиту его личной судьбы.
Разногласия между двумя еще очень не оформленными группировками временно сосредоточились на вопросе о пропаганде и агитации. Одни стояли за осторожную просветительную работу в кружках; другие – за руководство стачками и за агитацию посредством листков. Когда сторонники массовой работы одержали верх, предметом разногласия стал вопрос о содержании листков. Более осторожные стояли за агитацию на почве исключительно экономических нужд, чтоб «не отпугивать массы»; они получили от своих противников презрительное название «экономистов». Левое крыло, наоборот, считало неотложным переход к революционной агитации против царизма. Такова была за границей, в эмиграции, позиция Плеханова. Такова была в России позиция Владимира Ульянова и его друзей.
«Первые социал-демократические группы возникли в Тифлисе, – рассказывает один из пионеров. – Уже в 1896‑97 годах существовали в этом городе кружки, в которых преобладающий элемент составляли рабочие. Эти кружки носили первоначально чисто образовательный характер… Число этих кружков увеличивалось постоянно. В 1900 году их было уже несколько десятков тысяч. Каждый кружок состоял из 10‑15 человек». С возрастанием численности кружков смелее становилось содержание их деятельности.
Еще будучи семинаристом, Коба вступает в 1898 году в связь с рабочими и примыкает к социал-демократической организации. «Однажды вечером Коба и я, – вспоминает Иремашвили, – тайно пробрались из семинарии в Мтац-минда, в маленький прислонившийся к скале домик, принадлежавший рабочему тифлисских железных дорог. Вслед за нами скоро прибыли, крадучись, наши единомышленники из семинарии. С нами собралась еще социал-демократическая рабочая организация железнодорожников». Сам Сталин рассказал об этом в 1926 году на митинге в Тифлисе: «Я вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных мастерских. Я вспоминаю, как я на квартире у товарища Стуруа в присутствии Сильвестра Джибладзе (он был тогда тоже одним из моих учителей) … и других передовых рабочих Тифлиса получил уроки практической работы… Здесь, в кругу этих товарищей, я получил тогда первое свое боевое революционное крещение, здесь, в кругу этих товарищей, я стал тогда учеником революции…»
В 1898–1900 годах в железнодорожных мастерских и на ряде фабрик Тифлиса возникают забастовки при активном, иногда руководящем участии молодых социал-демократов. Среди рабочих распространяются прокламации, отпечатанные ручным способом, при помощи сапожной щетки, в подпольной типографии. Движение развертывается еще в духе «экономизма». Часть нелегальной работы ложилась на Кобу; какая именно часть, сейчас определить нелегко. Но он уже успел, видимо, стать своим человеком в мире революционного подполья.
В 1900 году Ленин, едва закончив сибирскую ссылку, отправляется за границу с намерением основать революционную газету, чтоб при ее помощи сплотить разрозненную партию и окончательно перевести ее на рельсы революционной борьбы. Одновременно старый революционер, инженер Виктор Курнатовский, близко посвященный в эти планы, направляется из Сибири в Тифлис. Именно он, а не Коба, как утверждают теперь византийские историки, вывел тифлисскую социал-демократию из «экономической» ограниченности и придал более революционное направление ее работе.
Курнатовский начал революционную деятельность еще в террористической партии «Народная Воля». Во время своей третьей ссылки, в конце столетия, он, уже в качестве марксиста, тесно сблизился с Лениным и его кружком. Основанная Лениным за границей газета «Искра», сторонники которой стали называться искровцами, имела в лице Курнатовского своего главного представителя на Кавказе. Старые тифлисские рабочие вспоминают: «К Курнатовскому обращались все товарищи во время всяких споров и дискуссий. Его выводы и заключения всегда принимались без возражения». Из этого свидетельства видно, какое значение имел для Кавказа этот неутомимый и несгибаемый революционер, личная судьба которого сочеталась из двух элементов: героического и трагического.
В 1900 году возникает, несомненно по инициативе Курнатовского, тифлисский Комитет социал-демократической партии, состоявший из одних интеллигентов. Коба, видимо подпавший вскоре, как и другие, под влияние Курнатовского, не был еще включен в Комитет, который продержался, впрочем, недолго. С мая по август проходит волна стачек на тифлисских предприятиях; в железнодорожных мастерских в числе стачечников числится слесарь Калинин, будущий председатель Советской республики, и другой русский рабочий, Аллилуев, будущий тесть Сталина.
На севере открылась тем временем полоса уличных выступлений, инициатива которых принадлежала студентам. Крупная первомайская демонстрация в Харькове в 1900 году поднимает на ноги большинство рабочих города и порождает эхо изумления и восторга во всей стране. За Харьковом следуют другие города. «Социал-демократия поняла, – пишет жандармский генерал Спиридович, – огромное агитационное значение выхода на улицу. Отныне она берет инициативу демонстраций на себя, привлекая к ним все больше рабочих. Нередко уличные демонстрации вырастают из стачек». Тифлис отстает ненадолго. Первомайский праздник – не забудем, что в России царит еще старый календарь – ознаменовался 22-го апреля 1901 года уличной демонстрацией в центре города, в которой приняло участие около двух тысяч человек. Во время столкновения с полицией и казаками ранено 14 и арестовано свыше 50 демонстрантов. «Искра» не преминула отметить важное симптоматическое значение тифлисской демонстрации: «С этого дня на Кавказе начинается открытое революционное движение».
Курнатовский, руководивший подготовительной работой, был арестован в ночь на 22 марта, за месяц до демонстрации. В эту же ночь был произведен обыск в обсерватории, где работал Коба; но его не удалось захватить, так как он отсутствовал. Жандармское управление постановило «привлечь названного Иосифа Джугашвили и допросить обвиняемым». Так Коба перешел на «нелегальное положение» и надолго стал «профессиональным революционером». Ему было в это время 22 года. До победы оставалось еще 16 лет.
Избегнув ареста, Коба в ближайшие недели скрывался в Тифлисе, так что ему удалось принять участие в первомайской манифестации. Берия говорит об этом категорически, прибавляя, как всегда, что Сталин «лично руководил» ею. К сожалению, доверять Берия нельзя. Однако мы имеем на этот счет и показания Иремашвили, правда, находившегося не в Тифлисе, а в Гори. «Коба, один из разыскивавшихся вожаков, – рассказывает он, – успел скрыться с базарной площади перед арестом… Он бежал в свой родной город Гори. У своей матери он также не мог проживать, так как там его первым делом искали. Он должен был поэтому скрываться также и в Гори. Тайно, в ночные часы, он часто посещал меня в моей квартире». Иремашвили успел к этому времени стать учителем в родном городке.
Тифлисская манифестация произвела на Кобу сильнейшее впечатление. «Не без тревоги» замечал Иремашвили, что именно кровавый исход столкновения воодушевлял его друга. «В борьбе на жизнь и на смерть должно было, по мнению Кобы, окрепнуть движение; кровавая борьба должна была принести скорейшее решение». Иремашвили не догадывался, что его друг лишь повторял проповедь «Искры».
Из Гори Коба, очевидно, снова вернулся нелегально в Тифлис, так как, по сведениям жандармского управления, «осенью 1901 года Джугашвили был избран в состав тифлисского Комитета… участвовал в двух заседаниях этого Комитета, а в конце 1901 года был командирован для пропаганды в Батум…» Так как у жандармов не было иной «тенденции», кроме изловления революционеров, причем благодаря внутренней агентуре они оказывались обычно неплохо осведомленными, то мы можем считать установленным, что в 1898–1901 годах Коба отнюдь не играл в Тифлисе той руководящей роли, которую ему стали приписывать в последние годы: до самой осени 1901 года он не входил даже в местный Комитет, а только состоял одним из пропагандистов, т. е. руководителем кружков.
В конце 1901 года Коба переезжает из Тифлиса в Батум, на побережье Черного моря, поблизости от турецкой границы. Переселение может быть без труда объяснено необходимостью скрыться с глаз тифлисской полиции и потребностями перенесения революционной пропаганды в провинцию. Меньшевистские издания дают, однако, другую версию. С первых дней своей деятельности в рабочих кружках Джугашвили обратил на себя, по их словам, внимание своими интригами против Джибладзе, главного руководителя тифлисской организации. Несмотря на предостережение, он продолжал распространять клевету «с целью умалить подлинных и признанных представителей движения и занять руководящую позицию». Преданный партийному суду, Коба был признан виновным в недостойной клевете и единогласно исключен из организации. Вряд ли существует способ проверить этот рассказ, исходящий, не будем забывать, от ожесточенных противников Сталина. Документы тифлисского жандармского управления, по крайней мере те, которые опубликованы до сих пор, ничего не знают об исключении Иосифа Джугашвили из партии, наоборот, говорят о его командировке в Батум «для пропаганды». Можно бы поэтому оставить вовсе без внимания версию меньшевиков, если бы некоторые другие свидетельства не наводили на мысль, что дело с переселением Кобы обстояло не вполне гладко.
Один из первых и вполне добросовестных историков рабочего движения на Кавказе, Т. Аркомед, книжка которого вышла в Женеве в 1910 году, рассказывает об остром конфликте, возникшем в тифлисской организации осенью 1901 года в связи с вопросом о привлечении в Комитет выборных представителей от рабочих. «Против этого выступил один молодой, неразборчиво-энергичный во всех делах, интеллигентный товарищ и, выставляя конспиративные соображения, неподготовленность и несознательность рабочих, высказался против допущения рабочих в Комитет. Обращаясь к рабочим, он кончил свою речь словами: «Здесь льстят рабочим; спрашиваю вас, есть ли среди вас хоть один-два подходящих для Комитета рабочих, скажите правду, положа руку на сердце?» Рабочие, однако, не вняли оратору и подали голоса за включение своих представителей в Комитет. Аркомед не называет «неразборчиво-энергичного» молодого человека по имени, так как в те годы разоблачение имен не допускалось обстоятельствами. В 1923 году, когда работа была переиздана советским издательством, имя по-прежнему осталось нераскрытым, и, надо думать, не случайно. Однако книжка заключает в себе ценное косвенное указание. «Упомянутый молодой товарищ, – продолжает Аркомед, – скоро после этого перенес свою деятельность из Тифлиса в Батум, откуда тифлисские работники получили сведения об его некорректном отношении, враждебной и дезорганизаторской агитации против тифлисской организации и ее работников». По словам автора, враждебное поведение диктовалось не принципиальными мотивами, а «личными капризами и стремлением к самовластью». Все это чрезвычайно похоже на то, что мы слышали от Иремашвили по поводу склоки в семинарском кружке. «Молодой человек» очень похож на Кобу. Не может быть никакого сомнения в том, что дело идет именно о нем, так как из членов тифлисского Комитета, как вытекает из многочисленных воспоминаний, в Батум переехал в ноябре 1901 года именно он и только он. Естественно поэтому допустить, что перемена арены работы стала необходимой вследствие того, что в Тифлисе почва под ногами Кобы успела слишком нагреться. Если не было «исключения», могло быть удаление из Тифлиса с целью оздоровления атмосферы. Отсюда, в свою очередь, «некорректное отношение» Кобы к тифлисской организации и позднейшие слухи об его исключении. Заметим себе заодно и повод конфликта: Коба охраняет «аппарат» от давления снизу.
Батум, насчитывавший в начале столетия около 30000 душ населения, представлял собой по тогдашним масштабам значительный промышленный пункт на Кавказе. Количество рабочих на заводах доходило до 11 тысяч. Рабочий день, как полагается, превышал 14 часов при нищенской плате. Немудрено, если пролетарская среда была в высшей степени восприимчива к революционной пропаганде. Как и в Тифлисе, Кобе отнюдь не приходилось начинать сначала: нелегальные кружки существовали в Батуме уже с 1896 года. Вместе с рабочим Канделаки Коба расширил сеть этих кружков. На новогодней вечеринке они объединились в общую организацию, которая не получила, однако, прав Комитета и оставалась зависимой от Тифлиса. Таков, очевидно, один из источников тех новых трений, о которых мы слышали от Аркомеда. Коба вообще не терпел никого над собой.
В начале 1902 года батумской организации удалось поставить нелегальную типографию, очень примитивную, которая помещалась в квартире, где проживал Коба. Столь вопиющее нарушение правил конспирации вызывалось, несомненно, скудостью материальных средств. «Тесная комнатка, тускло освещенная керосиновой лампой. За маленьким круглым столиком сидит Сталин и пишет. Сбоку от него – типографский станок, у которого возятся наборщики. Шрифт разложен в спичечных и папиросных коробках и на бумажках. Сталин часто передает наборщикам написанное». Так вспоминает один из участников организации. Нужно прибавить, что текст прокламаций стоял на том же приблизительно уровне, что и техника печатания. Несколько позже при содействии армянского революционера Камо, с которым нам еще предстоит встретиться, из Тифлиса были привезены нечто вроде печатного станка, кассы, шрифт. Типография расширилась и усовершенствовалась. Литературный уровень прокламаций оставался тот же. Но это не мешало им оказывать свое действие.
25-го февраля (1902 г.) администрация керосинового завода Ротшильд вывесила объявление об увольнении 389 рабочих. В ответ 27-го вспыхнула стачка. Брожение перекинулось на другие заводы. Возникли стычки с штрейкбрехерами. Полицмейстер запросил у губернатора помощи войсками. 7-го марта полиция арестовала 32 рабочих. На следующее утро около четырехсот рабочих завода Ротшильд собрались у тюрьмы, требовали освобождения или ареста всех остальных. Полиция препроводила всех в пересыльные казармы. Чувство солидарности все теснее спаивало в то время рабочие массы России, и эта массовая спайка проявлялась каждый раз по-новому в самых глухих углах страны: до революции оставалось всего три года… На следующий день, 9-го марта, возникла более крупная демонстрация. К казармам приблизилась, по словам обвинительного акта, «огромная толпа рабочих с вожаками впереди, шествуя правильными рядами, с песнями, шумом и свистом». В толпе было около двух тысяч человек. Рабочие Химирьянц и Гогиберидзе заявили военным властям от имени толпы то же требование: или освободить заключенных, или арестовать всех. Толпа, как признал впоследствии суд, была «мирно настроенной и невооруженной». Власти сумели, однако, вывести ее из мирного настроения. На попытку солдат очистить площадь прикладами рабочие ответили камнями. Войска стали стрелять, убили 14 человек, ранили 54. Событие потрясло всю страну: в начале столетия людские нервы неизмеримо чувствительнее реагировали на массовые убийства, чем сейчас.
Какова была роль Кобы в этой демонстрации? Ответить не легко. Советские компиляторы раздираются между противоречивыми задачами: приписать Сталину участие в возможно большем числе революционных событий и, в то же время, как можно дольше продлить сроки его тюремных заключений и ссылок. Придворные художники иллюстрируют два несовпадающих хронологических ряда, изображая Сталина в один и тот же момент уличным героем и тюремным страдальцем. 27-го апреля 1937 г. официальные московские «Известия» поместили фотоснимок с картины художника К. Хуцишвили, изображающей Сталина организатором забастовки тифлисских железнодорожников в 1902 году. На другой день редакция увидела себя вынужденной покаяться в допущенной ошибке. «Из биографии т. Сталина, – гласило заявление, – известно, что он… с февраля 1902 года до конца 1903 года сидел в Батумской и Кутаисской тюрьмах. Стало быть, т. Сталин не мог быть организатором забастовки в Тбилиси (Тифлисе) в 1902 году. Запрошенный по этому поводу т. Сталин заявил, что изображение его организатором забастовки железнодорожников в Тбилиси в 1902 году, с точки зрения исторической правды, является сплошным недоразумением, так как в это время он сидел в тюрьме в Батуме». Но если верно, что Сталин сидел в тюрьме с февраля, тогда «с точки зрения исторической правды» он не мог руководить и батумской демонстрацией, происшедшей в марте. Однако на этот раз ошибся не только чрезмерно усердный художник, ошиблась и редакция «Известий», несмотря на ее обращение к первоисточнику. Коба был на самом деле арестован не в феврале, а в апреле. Он не мог руководить тифлисской стачкой не потому, что сидел в тюрьме, а потому, что находился на берегу Черного моря. Он имел зато полную возможность принять участие в батумских событиях. Остается выяснить, в чем оно состояло.
Читатель замечает, вероятно не без сожаления, что изложение фактов осложняется критическими замечаниями по адресу источников. Автор хорошо понимает неудобство такого метода, но у него нет выбора. Документов, современных событиям, почти нет или они скрыты. Воспоминания позднейших лет тенденциозны, если не лживы. Представлять читателю готовые выводы, расходящиеся с официальной версией, значило бы возбуждать подозрение в пристрастии. Не остается ничего другого, как производить критику источников на глазах читателя.
Французский биограф Сталина, Барбюс, писавший под диктовку в Кремле, утверждает, что Коба занял место во главе батумской манифестации «как мишень». Эта напыщенная фраза противоречит не только данным полицейского дознания, но и характеру Сталина, который никогда и нигде не становился как мишень (что, впрочем, и не требуется). Непосредственно подчиненное Сталину издательство ЦК посвятило в 1937 году батумской демонстрации, вернее участию в ней Сталина, целый том. Однако 240 убористых страниц еще больше запутали вопрос, так как продиктованные сверху «воспоминания» находятся в полном противоречии с частично опубликованными документами. «Товарищ Coco все время находился на месте событий и руководил центральным стачечным комитетом», – покорно пишет Тодрия. «Тов. Coco все время был с нами», – утверждает Гогиберидзе. Старый батумский рабочий Дарахвелидзе рассказывает, что Coco находился «среди бушующего моря рабочих, непосредственно руководил движением; рабочего, раненного в руку во время стрельбы, Г. Каландадзе, он сам вывел из толпы и отвел его на квартиру». Руководитель вряд ли мог покинуть свой пост, чтоб вывести раненого: обязанность санитара мог выполнить рядовой участник демонстрации. Об этом сомнительном эпизоде не упоминает к тому же никто из остальных авторов, а их – 26. Но это, в конце концов, деталь. Рассказы о Кобе как непосредственном руководителе демонстрации гораздо более радикально опровергаются тем обстоятельством, что демонстрация, как слишком явно обнаружилось на суде, прошла без руководства. Даже рабочих Гогиберидзе и Химирьянца, действительно шедших во главе толпы, царский суд, вопреки настояниям прокурора, признал рядовыми участниками шествия. Имя Джугашвили во время судебного процесса, несмотря на многочисленность подсудимых и свидетелей, вообще не называлось. Легенда рушится, таким образом, сама собой. Участие Кобы в батумских событиях имело, видимо, закулисный характер.







