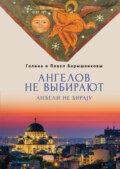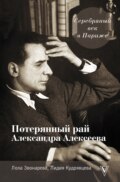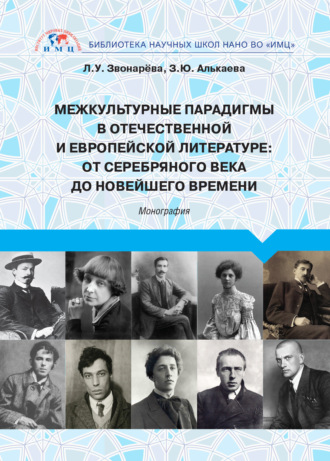
Лола Звонарёва
Межкультурные парадигмы в отечественной и европейской литературе. От Серебряного века до новейшего времени
1.5. Марина Цветаева: Крым глазами поэта
Солнце Крыма так активно поучаствовало в судьбе русского поэта Марины Цветаевой, что, перебирая лучи и отблески одних лишь южных событий и встреч, можно в красках нарисовать практически всю её жизнь. А началось всё с безжалостного пожара – условного пожара, выжженного куска девичьего сердца, отведённого для её матери. Первые крымские адреса Марины Ивановны Цветаевой – севастопольская гостиница и дача врача и писателя Сергея Яковлевича Елпатьевского в Ялте. Мать лечится, Марина и Ася учатся в гимназии… Приехав весной 1905 года на поезде в Севастополь, семья несколько дней проводит в гостинице. Девочки гуляют с отцом по приморскому бульвару и Графской пристани, с удивлением замечают: здешнее море не зелёное, как Средиземное, а тёмно-синее.
Покидая город, сестры посещают «Севастопольскую панораму», а потом пароход доставляет их в Ялту. Больше всего свидетельств об этой поре оставила Анастасия Ивановна Цветаева. Ялту она называет красавицей, а Массандру раем[129].
1905-й, мятежный для России, год оказался переломным и для семьи московского профессора Ивана Цветаева – по причине, правда, не связанной с революцией. Целебный ялтинский воздух облегчил состояние матери Марины Цветаевой, страдающей туберкулезом, но не предотвратил скорой трагической развязки. В 1906 году все они ещё наслаждаются красотами Ялты, но в том же году, в Тарусе, Мария Александровна Мейн умирает. Марина и её сестра Ася осиротели. Большая семья распадается. Однако смерть матери не отравила для впечатлительной Марины образ благословенного Крыма. Ко времени следующего свидания с этой землёй личная рана, видимо, успела отчасти затянуться. Это был уже апрель 1909 года, Марина провела тогда на море пасхальные каникулы вместе с соученицами по гимназии М.Г. Брюхоненко. Опять же, сначала был Севастополь (до него добирались поездом), а потом – морской путь в Ялту.
Думается, уже тогда шестиклассница Марина если не примеряет рыцарские доспехи, то, по крайней мере, напитывается героическим бесстрашием, учится принимать контрасты природы, её бури и ветры, как призыв к мужеству и напору. Такие настроения можно воссоздать, например, по точному, почти кинематографическому, описанию гимназисткой Татьяной Астаповой той ялтинской поездки[130]. Мятежная стихия юга, яркие картины так захватывают девушку, что даже книги, без которых её раньше нельзя представить, на время отложены в сторону. «Милая Валечка, – пишет Цветаева в апрельском письме сестре Валерии, – если бы ты знала, как хорошо в Ялте! Я ничего не читаю и целый день на воздухе, то у моря, то в горах. Фиалок здесь масса, мы рвём их на каждом шагу. Но переезд морем из Севастополя в Ялту был ужасный: качало и закачивало всех. Приеду верно 3-го или 4-го. Всего лучшего. МЦ.»[131].
Летом 1911 года Марина отдыхает в Гурзуфе, а оттуда переезжает в Коктебель: гостеприимный дом поэта и художника Максимилиана Волошина открыт для неё. Львиную гриву «коробейника друзей» Макса она видит уже не впервые – эта большая пушистая голова уже склонялась над её первой книгой «Вечерний альбом», и было это в Москве, в 1910 году. Самый первый доброжелательный отзыв о стихах молодой поэтессы Цветаевой принадлежит М. Волошину[132]. В письме к его матери, Елене Оттобальдовне Кириенко-Волошиной (Пра), она тоже не жалеет высоких слов: «Коктебель 1911 г. – счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам не затмить того сияния»[133], а в конце 1930 х годов в письме к А. Тесковой признается: «Таруса… Коктебель да чешские деревни – вот места моей души»[134]. Незабываемым этот город сделали для неё не только Волошины, но и общение с Аделаидой Герцык, Софией Парнок, Осипом Мандельштамом и многими другими яркими гостями дома. Там, среди спелых, дурманящих запахов Крыма, в интеллектуальном кругу друзей, Марина жадно напитывалась соками из двух рек: любви и знаний. Вдохновенный «час ученичества» позже М. Цветаева воспоёт в стихотворении «Есть некий час…» (15 апреля 1921 года)[135].
Крым, неизбежно связанный в сознании Марины с болезнью матери, словно пытается зацеловать её, окружить нежностью и теплом, задушить в объятиях… Вместо тени матери, этой неизлечимой тоски, полуостров дарит ей живого человека, пусть тоже чахоточного, слабогрудого, но так похожего на прекрасного принца. Проклятый туберкулез – бич этого скудного голодного времени – просочился и сюда, к счастливым влюбленным.
Недополученное материнское тепло поначалу Марина ищет в старшей по возрасту гордой поэтессе Софии Парнок. Но потом понимает: ей суждено самой стать для кого-то старшей, заботливой, надёжной, примерить на себя тот «шлем», «каску», «гриву» – все атрибуты силы, которые раньше она отмечала в портрете подруги. Сергей Эфрон и стал тем хрупким деревцем, который нуждается в её опеке. Марина Цветаева – поэт «в доспехах». Современники помнят: она узнавала себя в фигуре Пражского рыцаря Брунсвика, сторожащего Карлов мост. Этот поэт даже Георгия Победоносца смеет подбодрить в стихах: «Мужайся! Я твой щит и мужество!». Учёные уверили нас лишь сегодня: природа сделала сильным полом так называемый «слабый»; с точки зрения выживаемости и выносливости, женщина превосходит брутального мужчину. Однако Цветаева как будто знала и понимала это всегда. При этом её бытие с избранником и в воображении, и в стихах, и в реальности согласуется с законами русской волшебной сказки: для жениха, как и положено, нашлось задание-испытание, да и умерли супруги с небольшой разницей во времени: М. Цветаева – в последний день августа 1941 года, С. Эфрон – через полтора месяца, 16 октября. А счастлива эта пара именно в Крыму. Ариадна Эфрон, их дочь, писала: «Тот Крым она (Цветаева) искала везде и всюду – всю жизнь…»[136].
«Иду вдоль генуэзских стен»[137]… Здесь, в стихотворении «Над Феодосией угас…», как видим, промелькнул изысканный географический топоним, который перекликается с бесценной для Марины Ивановны генуэзской сердоликовой бусиной, соединившей её с роковым хрупким юношей Сергеем Эфроном. Потом ювелир вставит бусину в кольцо, и она будет всегда при ней. Какой цветаевед и любитель поэзии не помнит эту романтическую историю, когда мистически настроенная Марина загадала: суженым её станет тот, кто найдёт и подарит ей её любимый камень – медовый сердолик, светящийся, похожий на так же обожаемый ею янтарь? Это чудо свершилось именно на коктебельском берегу, в мае 1911 года, в день знакомства с Сергеем Эфроном. Кстати, как раз у любимых поэтом Генуэзских стен, благодаря усилиям основательницы музея сестер Цветаевых Ирины Михайловны Двойниной, в 2002 году загорелся первый в Феодосии «Цветаевский костер». Примечательно, что время пощадило многие дома в Феодосии, где бывала Марина, так что можно и сегодня прогуляться по городу цветаевскими маршрутами.
«Это сказка из Гауфа, кусочек Константинополя <…> И мы поняли – Марина и я, – что Феодосия – волшебный город и что мы полюбили его навсегда», – вспоминала А. Цветаева[138]. А вот что писала Анастасия в 1913 году, когда, похоронив отца, сестры Цветаевы проводят зиму в Феодосии. «Из всех городов прошлого сильнее всего позвал нас город, где мы были так счастливы два года тому назад <…> Я снимала <…> домик на Бульварной улице <…> Марина жила в минутах десяти от меня, вверх по отлогой горе <…> Садик вокруг низкого длинного домика был густой, уютный, весёлый, с холма был вид на море <…> Марина была счастлива с её удивительным мужем, с её изумительной маленькой дочкой – в те предвоенные годы»[139]. Если же вернуться к ранним детским впечатлениям героини эссе, стоит сказать о беспрестанно звучащем в ней стихотворении «К морю» Пушкина, о том, что под памятником Александру Сергеевичу на Тверском бульваре ей чудился говор волн. А морским артефактом тогда была для неё не ракушка, а украденная у Лёры (старшей сестры по отцу) открытка с видом итальянского городка Нерви: «первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали – мы» (М. Цветаева, «Мой Пушкин»)[140].
Прибавим к сказанному обстоятельство раннего ухода из жизни Наденьки из-за туберкулеза (тайной любовью к ней Марина буквально «болела»), и выстроится жуткая цепочка печальных событий, замкнутая на образе моря[141]. Море апеллирует к вечному, непостижимому. На пляже хорошо думается о любви: «Только что с моря и поняла одно. Я постоянно, с тех пор как впервые не полюбила (в детстве любила, как и любовь), порываюсь любить его <…> Точь-в-точь как с любовью. Тождественно. И каждый раз: нет, не мое, не могу <…> То же неожиданное блаженство, которое забываешь, как только вышел (из воды, из любви) – невосстановимое, нечислящееся <…> Есть вещи, от которых я в постоянном состоянии отречения: море, любовь» (Из письма Б.Л. Пастернаку)[142].
Цветаевой владели и тяга к свободно бурлящей водной стихии, и непонимание её, страх перед ней. «Столько места, а ходить нельзя»[143] – это тоже её слова о море. Как страстному пешеходу, Марине Ивановне хочется преодолеть пространство моря твёрдыми физическими усилиями, но это в принципе невозможно, даже если выучиться гребле: море непобедимо. Море – это бездна, а бездна всегда глубока и черна… Принимая во внимание, что «чёрный» – самый часто встречающийся цвет в поэтическом словаре Цветаевой (151 одно слово со значением этого цвета нашла филолог Л.В. Зубова), мы откроем и то, что символика чёрного чрезвычайно важна для сопоставления рифмующихся пластов биографии поэта. Чего в «чёрной» краске больше: траура, ночи, загадки, депрессии, – если речь идёт о Марине Цветаевой? Согласимся с анализом цветообозначения Цветаевой, предложенным Зубовой в книге «Поэзия Марины Цветаевой: лингвистический аспект»[144]: «Чёрное – опустошенность как результат динамического процесса и как готовность к слиянию с абсолютом («очищение огнём», катарсис)»[145].
Утрата матери была для Марины Цветаевой не только началом сиротства, но и потерей источника музыки, того строгого чёрного инструмента, на котором гениальная пианистка М.А. Мейн заставляла играть свою дочь. «Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего лица, осознание было сквозь черноту, переведением его на черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, оттуда увидеть» (очерк «Мать и музыка»)[146]. Лакированную черноту рояля Марина находит теперь в кипящем звуками Чёрном море, и через зеркало моря постигает симфонию судьбы. Черноморский бриз не утаил от поэта, сказавшего о себе: «Мне дело – измена, мне имя – Марина, // Я – бренная пена морская»[147], – горькое предчувствие трагедий, как, может быть, высокую плату за испытанное счастье любви: «И вечер удлиняет тени, // И безнадежность ищет слов»[148]…
1.6. Александр Грин: тайнопись прозы и графические поиски художников
Польские корни русского писателя
Под тайнописью прозы Грина мы понимаем скрытый христианский подтекст его прозы и не замечаемые исследователями ментальные связи с польской культурой писателя, рождённого в семье польского дворянина, сосланного в Вятку, – Стефана Евзебеевича Гриневского, арестованного в 1863 году по делу «об учениках Витебской гимназии, покушавшихся сформировать мятежническую шайку». До 1891 года отец Грина (1843 года рождения) оставался католиком (при этом состоял в церковном браке и детей крестил по православному обряду), а затем принял православие[149].
Александр Грин так и не побывал на исторической родине – в Польше, но создал собственную виртуальную страну – Гринландию. Впрочем, и Польша для многих неполяков оставалась виртуальной страной, о которой в конце ХIХ века французский классик Альфред Жарри писал в пьесе «Король-Убю»: «действие происходит в Польше, а значит, нигде»[150]. В «Автобиографической повести» писатель вспоминает двух матросов-поляков, встретившихся ему в Севастополе, в рассказе «Гриф» делает одним из героев пьяного сторожа – поляка Тадеуша, думающего о коварной Анельке[151], в новелле «Наказание» появляется вагонный мастер Владислав Сигизмундович явно польского происхождения[152]. Герои Грина вспоминают традиционные польские блюда и десерты – тартар (сырое мясо, пропущенное через мясорубку), земляничное желе. Мать главного героя рассказа «Зурбаганский стрелок», редко выходившая из спальни, «где проводила вечера и дни за чтением Священного Писания, изнурительными молитвами и раздумьем»[153], уходит в монастырь, где «её религиозный экстаз сопровождался удивительными явлениями: ранами на руках и ногах» (католики называют их стигматами)[154]. «Великим стигматиком» считают окружающие героя рассказа «Загадка непредвиденной смерти» Эбергайля, до такой степени боявшегося казни, что его голова отделилась от туловища на эшафоте ещё до того, как палач опустил топор[155].
Писатель в «Автобиографической повести» вспоминает фамилию крестного отца, поляка Тецкого. Живя в России в эпоху воинствующего атеизма, он оставался верующим человеком, хорошо знающим Библию. В Вятском земском реальном училище Закон Божий входил в число предметов, которые будущему писателю «хорошо давались» и вознаграждались отличными оценками[156], а чудо стало основной темой многих его произведений. Так, например, в новелле «Капитан Дюк» (1912) герой комментирует библейские сюжеты, связанные с историями Каина и Авеля, Авессолома и Ноя. Историю Авессолома вспоминает писатель и в рассказе «Жизнеописания великих людей»[157]. Перед сном читает Библию герой рассказа «Всадник без головы»[158]. Эпиграфом к новелле «Четвертый за всех» Грин делает слова из книги пророка Исайи. В рассказе «Крысолов» упоминается Ватикан[159], а в первой части новеллы «Всадник без головы (Рукопись XVIII столетия)» Грин рассказывает о двух католических первосвященниках. Арестанты в рассказе «Далёкий путь» поют молитвы «Достойно» и «Отче наш»[160].
От брата отца, убитого на Кавказе денщиками, полковника Гриневского, Александру досталась большая библиотека на русском, французском и польском языках, в том числе книга «Католицизм и наука», название которой прозвучит в «Автобиографической повести» писателя. В рассказе «Племя Сиург» мы встречаем описание католического костела: «готический, пустой, холодный и мрачный храм; в стрельчатых у купола окнах ложится, просекая сумрак, пыльный, косой свет, а внизу, где почти темно, белеют колонны»[161]. Герой новеллы «Далекий путь» вспоминает легенду о родственнике богатого скотопромышленника, укравшего «из горы все золото с целью выкупить душу своей жены, осужденную томиться в геенне за продажу распятия прощелыге-язычнику»[162].
Гриновские персонажи часто размышляют об отношениях с Богом. В рассказе «Лужа бородатой свиньи» читаем: «Он думал о жизни, о Боге…»[163]. Они любят поговорить о религии, об идеализме, о материи и духе (рассказ «Человек с человеком»)[164]. Герой новеллы «Гранька и его сын» «верил в Бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями, видел еще множество богов темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, был воплощением дьявольского и божественного начала»[165]. Упоминается Христос и в рассказе «Канат»[166] – кстати, в одном ряду с Наполеоном, когда-то обещавшим лишенным родины полякам восстановить суверенность Польши, о чем, возможно, хорошо помнит автор. Герой рассказа «Отравленный остров» дедушка Скоррей читает молитвы и отрывки из Библии[167]. В тексте той же новеллы фигурирует «пожелтевший от старости заглавный лист Библии»[168]. Герой рассказа «Преступление отпавшего листа» (1918) больше всего боится умереть, «не узнав радости воскресения», «лишаясь радости воскресения мертвой души»[169]. Грин пытается передать «острую печаль неверующего, которому перед смертью подносят к губам памятный с детства крест» (рассказ «Зурбаганский стрелок»)[170]. А в новелле «Дьявол Оранжевых вод» (1913), перепечатанной и в сборнике «Рассказы» (1923), повествователь обсуждает с собеседником, который в тексте назван «русским», отношения человека с Богом. На внезапное предложение «русского» помолиться, герой (чья национальность в рассказе никак не обозначена) отвечает:
«Вы, неверующий, – молитесь, можете разбить себе лоб. А я, верующий, не стану. Надо уважать Бога. Нельзя лезть к нему с видом побитой собаки лишь тогда, когда вас приперло к стене. Это смахивает на племянника, вспоминающего о богатом дяде только потому, что племянничек подмахнул фальшивый вексель. Ему также, наверное, неприятно видеть свое создание отупевшим от страха. Отношения мои к этим вещам расходятся с вашими…»[171].
Для писателя-христианина было очевидно: «…мир прекрасен. Всё на своем месте; всё божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцать шестым зрением, но не укладывается в слова» (рассказ «Канат»)[172].
Дева Мария, бегущая по волнам
А.Н. Варламов посвятил отношению писателя к религии целую главу своей книги, озаглавив её «Христианской кончины живота нашего…». При этом трудно согласиться с утверждением авторитетного писателя, что «Бегущая по волнам» <…>, равно как и рассказы Грина последних лет, евангельскими реминисценциями бедны, а христианского духа в них также мало, как духа русского в каком-нибудь «Острове Рено» или «Колонии Ланфиер»[173]. На наш взгляд, не стоит искать русский дух в произведениях писателя, воспитанного отцом, пострадавшим в борьбе за независимость Царства Польского, а вот с христианскими воззрениями Грина всё обстоит несколько сложнее. Внимательное чтение романа «Бегущая по волнам», написанного в 1925–1926 годах, убеждает, что в нем нёмало аллюзий, связанных со столь важным для любого крещёного польского человека культом Девы Марии. Тому, кто помнит о ходящем по водам на глазах потрясённых апостолов Христе, легко представить бегущую по волнам Деву Марию, оберегающую благочестивого человека в минуту смертельной опасности, пророчески предрекая ближайшее будущее, а затем исчезающую как таинственное видение. Названная её именем шхуна – «Бегущая по волнам» – легко включается в ряд названий кораблей типа «Санта Мария». В рассказе Грина «Зурбаганский стрелок» упоминается пароход «Святой Георгий»[174], а в новелле «Истребитель» – крейсер «Ангел бурь»[175]. Севастопольский знакомый будущего писателя Малецкий устроился на пароход «Мария», упоминаемый на страницах «Автобиографической повести»[176]. В центре многих европейских городов – почти в каждой католической стране будь то Польша, Италия или Франция, а ныне и в католических сельских районах западной Украины – можно увидеть статуи Девы Марии.
В монографии «Национальные образы мира» философ и культуролог Георгий Гачев отмечал: «…вечно молодая-юная Мать-Пани-Жена-Дева-Королева. Недаром Марию-Богородицу почитали “королевой польской”. “Запрещено было молиться Богородице под именем КОРОЛЕВЫ ПОЛЬСКОЙ, как её в Польше назвали уже целых два века” (Лависс и Рамбо. История ХIХ века. – Т. 2. – С. 31). Значит, не только божественный и домашний сан у Матери-Девы, но и Социумный: царский: Владычица – и светская она. <…>Во всяком случае, Мария – сверхмного значит в Польше. Не только святыня религиозная (Матка Боска Ченстоховска), но и Королева, но и Молодая Мать-Жена, возлюбленная вечная…»[177].
Герой романа «Бегущая по волнам» Томас Гарвей был наказан капитаном шхуны за то, что защитил блудницу – как когда когда-то Спаситель в известном евангельском сюжете. Как и Дева Мария в различных житиях и апокрифах, Бегущая по волнам, предсказав будущее и спасая героя, просит никому не говорить о встрече с нею. Если внимательно проанализировать гриновский портрет Бегущей по волнам, в нём явно проступают иконописные черты: глубокая печаль в голосе и на лике, ореол святости, нимб – «Вокруг неё стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. <…> в её чёрных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость молчания, – больше, чем молчание сжатых губ»[178]. Писатель-символист и романтик даёт читателям и ещё одну деталь, заставляющую убедиться, что перед нами Царица Небесная: «Казалось, не среди опасностей морской ночи, а в дальнем углу царского дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура»[179]. Расставаясь с автором-повествователем, Бегущая по волнам прощается с ним благословляющим жестом: «Она встала и положила руку на мою голову. Как мрамор в луче, сверкала её рука…», а затем делает движение, напоминающее то, которое совершают желающие перекрестить на прощание покидаемого человека[180].
Популярный в России в то время французский поэт Артюр Рембо в знаменитом стихотворении, написанном в 1871 году, «Пьяный корабль» тоже упоминает бегущую по волнам Пречистую Деву[181]. Или, может быть, чуть более точный перевод того же фрагмента Е. Витковским[182].
Несомненные отзвуки христианской культуры слышны и в символическом эпизоде из романа «Бегущая по волнам», когда возникшая из воздуха рука спасает не только жизнь герою, но и статую от разрушения: «Это была продолговатая чугунная штамба, весом пудов 20, пущенная, как маятник, на крепком канате. Она повернулась в тот момент, когда между её слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор (орудие неверующих, которыми они рушили храмы. – Прим. Л.З.) – стеариновую свечу (образ-символ из христианской сферы. – Прим. Л.З.), но поворот штамбы сунул её в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертясь, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен…»[183]. При чтении этих строк вспоминается легенда об иконописце, которого от смертельного падения с высоких лесов спасла рука Богородицы. Белорусский монах-базилианец Симеон Полоцкий, написавший в юности сто виршей на польском языке, переложил эту легенду стихами в первой в истории восточных славян поэтической энциклопедии «Вертоград многоцветный». Главного героя романа «Бегущая по волнам» зовут Томас (в католической традиции – Фома). Можно предположить, что здесь автор дает отсыл к Фоме Неверующему. Томас, так же как Фома, постоянно сомневается в увиденном чуде. Кроме того, в фамилии героя Гарвей повторяются две буквы из псевдонима автора – Грин, а вторая часть её может быть переведена как «путь» (way).
В ту атеистическую эпоху, когда был популярен журнал «Безбожник», спрятать намёк на христианскую святыню за полуфантастическим образом морской Богини в золотых туфельках для верующего писателя было вполне естественно. Известно, что к Грину в 1930 году пришёл молодой журналист Юрий Домбровский – взять интервью для журнала «Безбожник», Грин отказался, ответив: «…я верю в Бога». Смущённого неудачей интервьюера он утешил: «Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий. Хотя это пройдёт, конечно. Скоро пройдёт»[184].
В романе «Бегущая по волнам» мраморная статуя Бегущей подвергается нападкам и поношениям со стороны сильных мира сего. Её хотят разрушить влиятельные в городе люди. Горожане охраняют статую от этих вандалов. Эта статуя – скульптурный портрет таинственной девы, считающейся покровительницей города, и сделан он молодым скульптором, влюбленным в жену одного из отцов города, ответившую ему взаимностью. Оставленный молодой женой пожилой муж видит в ней портретное сходство с изменницей.
Подобная история случилась в 1884 году с Михаилом Врубелем при работе художника в Киеве в Кирилловском храме над образом Богоматери с младенцем, ставшем после реставрации похожим на жену заказавшего эту работу профессора А.В. Прахова Эмилию Львовну. Весной 1884 года двадцатисемилетний художник был страстно влюблен в неё. Бросающееся в глаза сходство святого образа с конкретной земной женщиной привело к признанию образа не соответствующим канону, а затем и к уничтожению законченной художником гениальной росписи. Карандашный этюд «Голова Богоматери» для образа Кирилловской церкви, как свидетельствует монография С. Яремича, долгие годы хранился в собрании дочери Эмилии Львовны – Е.А. Праховой.
В заключительной сцене романа «Бегущая по волнам» брошенная одноименная шхуна, осквернённая разгулом и драками, бесславно разрушается, как разрушались в то время в СССР тысячи храмов. Они были разграблены, превращены в склады, тиры, танцплощадки (как те же древние соборы Троице-Сергиевой Лавры). Как пишет православный литературовед профессор И.А. Есаулов в книге «Постсоветские мифологии: структуры повседневности», «душу (России. – Прим. Л.З.) <…> пытались убить <…>, взрывая православные храмы, вытряхивая из усыпальниц мощи русских святых, а потом там же “организуя” либо дома для умалишенных, либо общественные уборные»[185].
И всё же финал романа звучит светло и оптимистично: главный герой нашёл подтверждение своей веры в любимой девушке Дeзи, согласившейся с его объяснением невозможного (двойное подтверждение бытия всего святого – вспомним многочисленные доказательства бытия Божия).
Изобразительное искусство в прозе А. Грина
Александр Грин, по собственному признанию, «недурно рисовал, <…> сам научился писать акварелью»[186]. Ещё в школьные годы будущий писатель написал и нарисовал (срисовав несколько картинок из «Живописного обозрения») рукописный журнал. Юношей он брал с собой в далекие путешествия акварель. В зрелом возрасте А. Грин дружил с известным крымским художником Константином Богаевским, разделяя его возвышенно-романтическое отношение к природе. Писатель часто бывал в Феодосии в мастерской Богаевского на Карантинном холме, оборудованной в помещении бывшего хлебного амбара, которую называл «храмом истинного искусства». Писатель расспрашивал художника, можно ли по руке человека, висящего над пропастью, почувствовать трагизм его положения. Грину это было нужно для описания картины художника Петтечера «Рука на скале» в неоконченном романе «Недотрога»[187].
В произведениях Грина часто упоминаются художники и процесс их творчества. В феерии «Алые паруса» встречаются две картины – изображение распятого Христа, страдания которого пытается облегчить маленький Грей, и морской пейзаж, на всю жизнь поселивший в душу главного героя любовь к морю. В «Бегущей по волнам» мы читаем о матросе, который «устраивал в широкой бутылке пейзаж из песка и стружек, действуя, как японец, тончайшими палочками»[188]. В рассказах упоминаются жанры живописи (пейзаж, арабеска) и техники исполнения (акварель). В романе «Блистающий мир» читаем: «…всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара…»[189]. Как тут не вспомнить сложнейшие мозаики, изобретенные в философских трактатах Лейбница!
В новелле «Смерть Ромелинка» мы встречаем следующую ремарку: «Профили пассажиров, разместившихся по бортам, рисовались на вечерней воде бледными акварельными набросками»[190]. В «Алых парусах»: «Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Бёклина»[191]. Профессиональный термин из обихода художников используется писателем как заглавие рассказов – новеллы «Акварель» и «Баталист Шуан». В новелле «Белый огонь» упоминается «зал художественных аукционов», а также – картина, статуя, вышивка, гобелен, бронза, камея, этюд, рисунок, медальон, бюст. В прозаической ткани рассказа «Синий каскад Теллури» (1912) упоминается камедь – вещество, употребляемое как загуститель красок. В новелле «Враги» упоминаются египетские и ассирийские фрески[192]. Последний роман писателя «Дорога никуда» (первое название «На теневой стороне») обязан, по свидетельству жены писателя Нины Грин, названием гравюре Гринвуда, которую прозаик увидел в Москве летом 1928 года на выставке английских гравюр в Музее изящных искусств на Волхонке. В романе писатель так говорит о ней: «Безлюдная дорога среди холмов в утреннем озарении».
Грин нередко описывает и упоминает конкретные картины, называет имена знаменитых художников – портрет жены Рембрандта (рассказ «Человек с человеком»)[193], «Джоконду» («Три похождения Эхмы»)[194] и отдельно – Леонардо да Винчи (рассказ «Жизнеописания великих людей»)[195], и итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини, статую самурая (рассказ «Убийство в Кунст-Фише»)[196], костюмы «эпохи Ватто», рисунки Калло, Фрагонара, Бердслэя («Бегущая по волнам»)[197], вспоминает великий музей – Лувр («Зурбаганский стрелок»)[198]. Лицо героя может напоминать повествователю «портрет старинной живописи» (рассказ «Система мнемоники Атлея»)[199], а его силуэт – «конную статую» (рассказ «Синий каскад Теллури»)[200].
Чтобы намекнуть на низкий уровень культуры героя, повествователь замечает: «на стенах висели <…> плохие картинки <…>» (рассказ «Сладкий яд города»)[201]. В новелле «Враги», словно воспитывая вкус читателя, писатель подробно рассказывает, какую опасность таят в себе слабые работы: «Плохо намалеванный пейзаж, конечно, наглухо закрывает нам ту картину природы, жертвой которой пал неумелый художник; мы видим помидор – солнце, метелки – деревья, хлебцы вместо холмов; короче говоря, – изображенное в истине своей нам незримо, хотя часть истины в то же время тут налицо: расположение предметов, их ракурс, тона красок»[202].
В рассказе «Далёкий путь» Грин стремится объяснить очарование старинных рисунков: «Секрет их особого впечатления заключается в спокойной простоте линий, выведенных рукой твердой, лишённой сомнений; рисующий был уверен, что изображаемое подлинно таково; с наивностью, действующей заразительно, руководясь лишь главными зрительными впечатлениями, как рисуют до сих пор японцы, художник изображал листву деревьев всегда зелёной, стволы – коричневыми, голую землю – жёлтой, камни – серой, а небо – голубой краской; такое проявление творчества, данное человеком, по-видимому, бесхитростным и спокойным, действует убедительно. Несокрушимая ясность линий почти трогательна; прежде всего, вы видите, что рисунок сделан с любовью. То, что я рассматривал, было иллюстрацией к одному рассказу, с подписью: «Горные пастухи в Андах». В тёмно-коричневом с одной стороны и светло-жёлтом – с другой, в горном проходе, в голубом воздухе, под синим небом, по крутой горной тропинке, поросшей ярко-зелёной травой, спускалось к тоже очень зелёному лугу стадо лам, а за ними, верхом на мулах, в красных плащах, лиловых жилетах и жёлтых шляпах ехали всадники с ружьями за спиной. На заднем плане, нарисованном голубым и белым, виднелась снеговая гора. На сером уступе скалы сидела красно-синий кондор»[203].