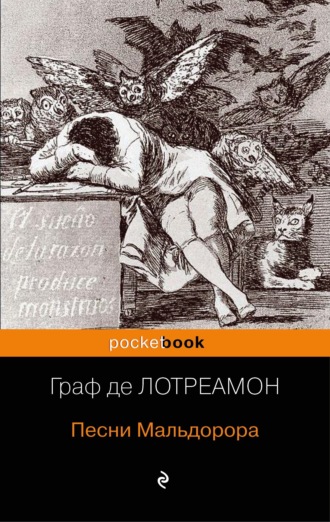
Граф де Лотреамон
Песни Мальдорора
Песнь I
(1) Дай бог, чтобы читатель, в ком эти песни разбудят дерзость, в чьей груди хоть на миг вспыхнет бушующее в них пламя зла, – дай бог, чтоб он не заблудился в погибельной трясине мрачных, сочащихся ядом страниц, чтобы смог он найти неторную, извилистую тропу сквозь дебри; ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума, вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением, иначе смертельная отрава пропитает душу, как вода пропитывает сахар. Не каждому такое доступно, лишь избранным дано вкусить сей горький плод и не погибнуть. А потому, о слабая душа, остановись и не пытайся проникнуть дальше, в глубь неизведанных земель; не вперед, а вспять направь свои стопы. Ты слышишь, не вперед, а вспять, подобно тому, как почтительный сын отвращает глаза от сияющего добродетелью лица матери или, вернее, длинному клину теплолюбивых и благоразумных журавлей, когда с наступлением холодов летят они в тишине поднебесья, расправив могучие крылья, держась известного им направления, и вдруг навстречу им задует резкий ветер, предвестник бури. Старейший, летящий во главе всей стаи журавль встревоженно качает головой, а стало быть, и клювом тоже и недовольно им трещит (еще бы, на его месте я тоже был бы недоволен), а между тем порывы ветра злобно треплют облезлую его выю, пережившую целых три журавлиных поколения, – гроза все ближе. И тогда, неспешно и тщательно обозрев горизонт своим многоопытным оком, вожак (он и никто другой облечен правом являть свой хвост взорам всех летящих позади и уступающих ему в мудрости птиц) издает унылый предостерегающий крик, как страж, отпугивающий злоумышленника, и плавно отклоняет вершину геометрической фигуры, образованной птичьими телами (возможно, это треугольник, но третьей стороны не видно), вправо или влево – так опытный шкипер меняет галс – и, поворачивая крылья, что кажутся с земли не больше воробьиных, с философическим смирением ложится на другой, безопасный курс.
(2) Ты, верно, ждешь, читатель, чтоб я на первых же страницах попотчевал тебя изрядной порцией ненависти? – Будь спокоен, ты ее получишь, ты в полной мере усладишь свое обоняние кровавыми ее испарениями, разлитыми в бархатном мраке; твои благородные тонкие ноздри затрепещут от вожделения, и ты опрокинешься навзничь, как алчная акула, едва ли сознавая сам всю знаменательность своих деяний и этого вдруг пробудившегося в тебе голодного естества. Обещаю, две жадные дырки на гнусной твоей роже, уродина, будут удовлетворены сполна, если только ты не поленишься три тысячи раз подряд вдохнуть зловоние нечистой совести Всевышнего! На свете нет ничего, столь благоуханного, так что твой нос-гурман, вкусив сей аромат, замрет в немом экстазе, как ангелы на благодатных небесах.
(3) Теперь скажу несколько слов о том, как добр и счастлив был Мальдорор в первые, безоблачные годы своей жизни, – вот эти слова уже и сказаны. Но вскоре он заметил, что по некой фатальной прихоти судьбы был создан злым. Долгие годы в меру сил скрывал он свою натуру, но это длительное, неестественное напряженье привело к тому, что ему стала каждый день бешено бросаться в голову кровь, так что наконец, не выдержав этой муки, он всецело предался злу… и задышал полной грудью в родной стихии! Подумать страшно: всякий раз, как Мальдорор касался губами свежих щечек ребенка, он испытывал желанье исполосовать их острой бритвой, и он охотно сделал бы это, не останавливай его Правосудие с его грозным арсеналом наказаний. Но он не лицемерил, он прямо говорил, что жесток. Вняли ль вы его словам, о люди? Вот и теперь он повторяет это свое признанье на бумаге, и перо дрожит в его руке! Увы, его силы помощнее нашей воли… Черт побери! Что бы вы сказали, если б камень вздумал вдруг противиться закону тяготенья? Ах, это невозможно? Но так же невозможно злу жить в ладу с добром, хотя б оно того и пожелало. К тому я и клоню.
(4) Иные пишут для того, чтобы заставить публику рукоплескать своей добродетели, напускной или подлинной. Я же посвящаю свой талант живописанью наслаждений, которые приносит зло. Они не мимолетны, не надуманны, они родились вместе с человеком и вместе с ним умрут. Или благое Провиденье не допустит, чтобы талант служил злу? Или злодей не может быть талантлив? Мое творение покажет, так ли это, а вы судите сами, была бы охота слушать… Погодите, у меня, кажется, встали дыбом волосы, ну, да это пустяки, я пригладил их рукой, и они послушно улеглись. Так вот, мелодии, которые певец исполнит перед вами, не новы, но то и ценно в них, что все надменные и злобные мысли моего героя каждый обнаружит в себе самом.
(5) Я насмотрелся на людей, и все они, все до единого, тщедушны и жалки, все только и делают, что вытворяют одну нелепость за другой да старательно развращают и отупляют себе подобных. И говорят, что все это – ради славы. Глядя на эту комедию, я хотел рассмеяться, как смеются другие, но, несмотря на все старания, не смог – получалась лишь вымученная гримаса. Тогда я взял острый нож и надрезал себе уголки рта с обеих сторон. Я было думал, что достиг желаемого. И, подойдя к зеркалу, смотрел на изуродованный моею же рукой рот. Но нет! Кровь так хлестала из ран, что поначалу было вообще ничего не разглядеть. Когда же я вгляделся хорошенько, то понял, что моя улыбка вовсе не похожа на человеческую, иначе говоря, засмеяться мне так и не удалось.
Я насмотрелся на людей, жуткорожих, с запавшими глазами, они бесчувственнее скал, тверже литой стали, злобнее акулы, наглее юнца, неистовей безумного убийцы, коварнее предателя, притворней лицедея, упорнее священника; нет никого на свете, кто был бы столь же скрытен и холоден, как эти существа, им нипочем ни обличенья моралистов, ни справедливый гнев небес! Я насмотрелся на таких, что грозят небу дюжим кулаком, – так угрожает собственной матери испорченный ребенок – верно, злой дух подстрекает их, жгучий стыд превратился в ненависть, которою горит их взор, они угрюмо молчат, не смея выговорить вслух затаенных своих святотатственных мыслей, полных яда и черной злобы, а милосердный Бог глядит на них и сокрушается. Насмотрелся я и на таких, которые с рождения до смерти, каждый день и час, изощряются в страшных проклятиях всему живому, себе самим и своему Создателю, которые растлевают женщин и детей, бесстыдно оскверняя обитель целомудрия. Пусть вознегодует океан и поглотит разом все корабли, пусть смерчи и землетрясенья снесут дома, пусть нагрянут мор, глад, чума и истребят целые семьи, невзирая на мольбы несчастных жертв. Люди этого и не заметят. Я насмотрелся на людей, но чтобы кто-нибудь из них краснел или бледнел, стыдясь своих деяний на земле, – такое доводилось видеть очень редко. О вы, бури и ураганы, ты, блеклый небосвод, – не пойму, в чем твоя хваленая красота! – ты, переменчивое море – подобие моей души, – о вы, таинственные земные недра, вы, небесные духи, о ты, необъятная вселенная, и ты, Боже, щедрый творец ее, к тебе взываю: покажи мне хоть одного праведного человека!.. Но только прежде приумножь мои силы, не то я могу не выдержать и умереть, узрев такое диво, – случается, еще и не от такого умирают.
(6) Две недели надо отращивать ногти. А затем – о, сладкий миг! – схватить и вырвать из постели мальчика, у которого еще не пробился пушок над верхней губой, и, пожирая его глазами, сделать вид, будто хочешь откинуть назад его прекрасные волосы и погладить его лоб! И наконец, когда он совсем не ждет, вонзить длинные ногти в его нежную грудь, но так, чтобы он не умер, иначе как потом насладиться его муками. Из раны потечет кровь, ее так приятно слизывать еще и еще раз, а мальчик все это время – пусть бы оно длилось вечно! – будет плакать. Нет ничего лучше этой его горячей крови, добытой так, как я сказал, – ничего, кроме разве что его же горько-соленых слез. Да разве тебе самому не случалось попробовать собственной крови, ну хотя бы лизнуть ненароком порезанный палец? Она так хороша, не правда ль, хороша тем, что вовсе не имеет вкуса. Теперь припомни, как однажды, когда тебя одолевали тягостные мысли, ты спрятал скорбное, мокрое от текущей из глаз влаги лицо в раскрытые ладони, а затем невольно поднес ладонь, эту чашу, трясущуюся, как бедный школьник, что затравленно смотрит на своего бессменного тирана, – ко рту, поднес и жадно выпил слезы! Они так хороши, не правда ли, остры, как уксус? Как будто слезы влюбленной женщины; и все же детские слезы еще приятней на вкус. Ребенок не предаст, ибо не ведает зла, а женщина, пусть и любящая, предаст непременно (я сужу, опираясь лишь на логику вещей, потому что сам не испытал ни любви, ни дружбы, да, верно, никогда и не принял бы ни того, ни другого, по крайней мере, от людей). Так вот, если собственные кровь и слезы тебе не претят, то отведай, отведай без опаски крови отрока. На то время, пока ты будешь терзать его трепещущую плоть, завяжи ему глаза, когда же вдоволь натешишься его криками, похожими на судорожный хрип, что вырывается из глотки смертельно раненных на поле брани, тогда мгновенно отстранись, отбеги в другую комнату и тут же шумно ворвись обратно, как будто лишь сию минуту явился ему на помощь. Развяжи его отекшие руки, сними повязку с его смятенных глаз и снова слизни его кровь и слезы. Какое непритворное раскаяние охватит тебя! Божественная искра, таящаяся в каждом смертном, но оживающая так редко, вдруг ярко вспыхнет – увы, слишком поздно! Растрогается сердце и изольет потоки состраданья на невинно обиженного отрока: «О бедное дитя! Терпеть такие жестокие муки! Кто мог учинить над тобою неслыханное это преступленье, какому даже нет названья! Тебе, наверно, больно? О, как мне жаль тебя! Родная мать не ужаснулась бы больше, чем я, и не воспылала бы большей ненавистью к твоим обидчикам! Увы! Что такое добро и что такое зло! Быть может, это проявления одной и той же неутолимой страсти к совершенству, которого мы пытаемся достичь любой ценой, не отвергая даже самых безумных средств, и каждая попытка заканчивается, к нашей ярости, признанием собственного бессилия. Или все-таки это вещи разные? Нет… меня куда больше устраивает единосущность, а иначе что станется со мною, когда пробьет час последнего суда! Прости меня, дитя, вот пред твоими чистыми, безгрешными очами стоит тот, кто ломал тебе кости и сдирал твою кожу, – она так и висит на тебе лохмотьями. Бред ли больного рассудка или некий неподвластный воле глухой инстинкт – такой же, как у раздирающего клювом добычу орла, – толкнули меня на это злодеяние, – не знаю, но только я и сам страдал не меньше того, кого мучил! Прости, прости меня, дитя! Я бы хотел, чтобы, окончив срок земной жизни, мы с тобою, соединив уста с устами и слившись воедино, пребывали в вечности. Но нет, тогда я не понес бы заслуженного наказанья. Пусть лучше так: ногтями и зубами ты станешь разрывать мне плоть – и эта пытка будет длиться вечно. А я для совершения сей искупительной жертвы украшу свое тело благоуханными гирляндами; мы будем страдать вместе: я от боли, ты – от жалости ко мне. О светлокудрый отрок с кротким взором, поступишь ли так, как я сказал? Ты не хочешь, я знаю, но сделай это для облегчения моей совести». И вот, когда кончишь такую речь, получится, что ты не только надругался над человеком, но и заставил его проникнуться к тебе любовью – а слаще этого нет ничего на свете. Что же до мальчугана, ты можешь поместить его в больницу – ведь ему, калеке, не на что будет жить. И все еще станут превозносить твою доброту, а когда ты умрешь, к ногам твоей босоногой статуи со старческим лицом свалят целую груду лавровых венков и золотых медалей. О ты, чье имя не хочу упоминать на этих, посвященных восхваленью зла, страницах, я знаю что до сих пор твое всепрощающее милосердие было безгранично, как вселенная. Но ты еще не знал меня!
(7) Я заключил союз с проституцией, чтобы сеять раздор в семействах. Помню ночь, когда свершился сей пагубный сговор. Я стоял над некой могилой. И услышал голос огромного, как башня, сияющего в темноте червя: «Я посвечу тебе. Прочти, что тут написано. Не я, а тот, кто всех превыше, так велит». И все вокруг залил кровавый свет, такой зловещий, что у меня застучали зубы и беспомощно повисли руки. Прислонившись, чтобы не упасть, к полуразвалившейся кладбищенской стене, я прочитал: «Здесь покоится отрок, погибший от чахотки, его история тебе известна. Не молись за него». Не у многих, верно, хватило бы духу выдержать такое. Меж тем ко мне приблизилась и упала к моим ногам прекрасная нагая женщина. «Встань», – произнес я и протянул ей руку, как протягивает ее брат, чтоб задушить свою сестру. И сказал мне сияющий червь: «Возьми камень и убей ее». – «За что?» – спросил я. А он: «Берегись, ты слаб, а я силен. Имя той, что простерта здесь, Проституция». И я почувствовал, как к горлу подступили слезы, и ярость захлестнула сердце, и неизведанная сила разлилась по жилам. Взявшись за огромный камень, я напряг все жилы, поднял его водрузил себе на плечо. Затем, не выпуская камня, влез на вершину самой высокой горы и оттуда обрушил глыбу на червя и раздавил его. Так что голова его ушла в землю на человеческий рост, а глыба подскочила на высоту полдюжины церквей и вновь упала прямо в озеро, пробив в его дне исполинскую воронку, в которой в тот же миг забурлила хлынувшая от берегов вода. Кровавый свет угас, покой и темнота вновь воцарились на земле. «Горе тебе! Что ты сделал?» – вскричала нагая красавица. «Мне больше по душе не он, а ты, – ответил я, – ибо несчастье вызывает во мне сострадание. Не твоя вина, что Вечный Судия тебя такой создал». – «Настанет час, когда и люди воздадут мне по справедливости – вот все, что я могу сказать. Пока же дай мне удалиться, укрыть мою неутолимую печаль на дне морском. На всем свете не презираешь меня один лишь ты, да еще кошмарные чудовища, что водятся там, в мрачных глубинах. Ты добр. Прощай же, единственный, кто возлюбил меня!» – «Прощай! Прощай! Я буду любить тебя вечно!.. Отныне отрекаюсь от добродетели». И потому, о люди, услышав, как студеный ветер воет над морями и над сушей, над большими, давно скорбящими обо мне городами и над полярными пустынями, скажите: «То не Божье дыханье пролетает над землею, то тяжкий вздох Блудницы, смешавшийся со стоном уроженца Монтевидео». Запомните это, дети мои. И преклоните в милосердии своем колена, и пусть все люди, которых больше на земле, чем вшей, воссылают к небесам молитвы.
(8) Кому хоть раз случалось провести ночь на пустынном морском берегу, тот замечал, как желтый, призрачный, туманный лунный свет причудливо преображает весь пейзаж. Как ползут, бегут, сплетаются и замирают распластанные по земле тени деревьев. Когда-то, в далекую пору крылатой юности, эта фантасмагория пленяла меня, навевала грезы, теперь же приелась. С унылым стоном треплет листья ветер, зловещим, леденящим душу басом причитает филин. В этот час во всех дворовых псов округи вселяется безумие; одичав, сорвавшись с цепи, они несутся прочь без оглядки. Но вдруг, застыв как вкопанные, тревожно озираются по сторонам горящими глазами и, подобно слонам, что в смертный час отчаянным усильем поднимают головы с беспомощно висящими ушами и вытягивают вверх хоботы, – собаки поднимают головы, с такими же беспомощно висящими ушами, вытягивают шеи и лают, лают… то как плач голодного ребенка звучит этот лай, то как вопль подбитого кота на крыше, то как стенанья роженицы, то как предсмертный хрип в чумном бараке, то как божественное пенье юной девы; псы лают, воют и рычат на звезды, на луну, на горы, застывшие вдали мрачными громадами, на хладный ветер, что наполняет их грудь и обжигает красное нутро ноздрей; на ночное безмолвие, на сов, что со свистом прочерчивают во тьме дуги, едва не касаясь крыльями собачьих морд и унося в клювах лягушек и мышей, живую, лакомую пищу для птенцов; на вора, что скачет во весь опор подальше от ограбленного дома; на змей, скользящих меж стеблей папоротника и заставляющих псов скалить зубы и злобно ощетиниваться; на собственный лай, что пугает их самих; на жаб, которых они звучно цапают зубами (а кто велел этим тварям вылезать из болота?); на ветки, что скрывают столько тайн, непостижимых тайн, в которые они пытаются проникнуть, впиваясь умными глазами в колышущуюся листву; на пауков, что зацепились и повисли на их долговязых лапах или спасаются бегством, карабкаясь вверх по древесным стволам; на воронов, что маялись весь день, ища, чем поживиться, а сейчас, голодные и чуть живые, разлетаются по гнездам; на береговые скалы; на разноцветные огни, что зажигаются на мачтах невидимых судов; на ропот волн; на рыбин, что, резвясь, выныривают из воды, мелькают черными горбами и вновь уходят вглубь; и, наконец, на человека, который обратил их в рабство.
Но вот они снова срываются с места и летят напропалую, кровавя лапы, через поля, овраги, вдоль дорог, по кочкам, рытвинам, по острым камням, как одержимые, как будто неуемная жажда гонит их на поиски прохладного источника. Их протяжный вой полнит ужасом округу. Горе запоздалому ночному путнику! Псы, прислужники смерти, набросятся и вопьются острыми клыками, загрызут – что-что, а зубы у собак отменные! – сожрут, давясь кровавыми кусками. Даже дикие звери в страхе мчатся прочь, не смея присоединиться к жуткой трапезе. А после нескольких часов такого безумного бега псы, изнуренные, вывалив из пасти языки, в остервенении набросятся друг на друга и в мгновенье ока разорвут друг друга в клочья. Но это не просто жестокость… Я помню, как однажды, глядя на меня остекленевшими глазами, матушка сказала: «Когда услышишь, лежа в постели, лай псов поблизости, накройся поплотнее одеялом и не смейся над их безумьем, ибо ими владеет неизбывная тоска по вечности, тоска, которою томимы все: и ты, и я, и все унылые и худосочные жители земли. Но это зрелище возвышает душу, и я позволяю тебе смотреть на него из окна». Я свято чту завет покойной матери. Меня, как этих псов, томит тоска по вечности… Тоска, которой никогда не утолить!.. Уверяют, что мои родители – обычные мужчина и женщина. Странно… Мне казалось, что я не столь низкого происхождения. А впрочем, какая разница? Будь на то моя воля, я бы и вовсе предпочел быть сыном прожорливой, как смерч, акулы и кровожаднейшего тигра – тогда во мне было бы меньше злобы. Эй, вы, глазеющие на меня зеваки, держитесь-ка подальше: мое дыханье ядовито! Еще никто не видел воочию зеленых морщин на моем челе, моего костистого лица, похожего на рыбий скелет, или на каменистую морену, или на горный кряж – из тех, где я любил бродить, когда седина еще не убелила мою голову. Ибо, когда грозовыми ночами я, одинокий, как валун посреди большой дороги, с горящими глазами и развевающимися на ветру волосами, приближаюсь к жилищам людей, то закрываю ужасное свое лицо бархатным платком, черным, как сажа в трубе, дабы чьи-нибудь глаза не узрели уродства, которым с ухмылкой торжествующей ненависти заклеймил меня Всевышний. По утрам, когда показывается око вселенной, на целый мир отверстое с любовью, лишь мне отрады нет; забившись в глубину своей излюбленной пещеры, спиною к свету, не отрывая глаз от темных недр, я упиваюсь отчаянием, словно терпким вином, и что есть силы раздираю собственную грудь. Но нет, я не безумен! Нет, я не единственный страдалец! Нет, я все еще дышу! Бывает, смертник перед казнью ощупывает шею и поводит головою, представляя, что с ней станет там, на эшафоте, так же и я, попирая ногами соломенное ложе, стою и часами, круг за кругом, верчу головой, а смерть все не идет. В минуту передышки, когда, устав вращать головой все в одну и ту же сторону, я останавливаюсь, чтобы начать вновь – в другую, я успеваю через щели густо сплетенных ветвей взглянуть на волю – и ничего не вижу! Ничего… лишь круговерть полей, деревьев и четки птичьих стай, перечеркнувших небо. Мутится кровь, мутится разум… И чья-то беспощадная десница все бьет и бьет по голове, как тяжким молотом по наковальне.
(9) Громко, торжественно, ровно, без лишнего пыла намерен я продекламировать сию строфу. Так приготовьтесь же внимать ей, но берегитесь: она разбередит вам душу, оставит в ней глубокий и неизгладимый шрам. Не думайте, будто я при последнем издыхании – еще не иссохла плоть моя, еще не сморщилось от дряхлости лицо мое. А потому сравненье с лебединой песнью не годится: пред нами не лебедь, испускающий дух, а страшное создание; наружность его безобразна – ваше счастье, что вы не видите его лица, – но много мерзостнее душа его. Отсюда, впрочем, еще не следует, что я преступен… Ну, да хватит об этом. Я видел океан совсем недавно, недавно ходил по корабельной палубе, и воспоминания мои так свежи, точно все это было вчера. Однако я буду сдержан, сохраняйте хладнокровие и вы, если, конечно, сможете, читая эти строки – уж я жалею, что принялся писать их, – и не краснейте от стыда за человека. О нежноокий спрут, ты, чья душа неотделима от моей, ты, самое прекрасное из всех земных существ, ты, властелин четырехсот рабынь-присосок, ты, в ком так гармонично, естественно, счастливо сочетаются божественная прелесть и притягательная сила, зачем ты не со мною, спрут! Как славно было бы сидеть с тобою на скалистом берегу, прижавши грудь к твоей груди, – твоя как ртуть, моя как алюминий – и вместе наслаждаться дивным видом!
О древний Океан, струящий хрустальные воды, ты словно испещренная багровыми рубцами спина бедняги-юнги; ты огромнейший синяк на горбу земного шара – вот удачное сравненье! Не зря твой неумолчный стон, который часто принимают за беззаботный лепет бриза, пронзает наши души и оставляет в них незаживающие язвы, и в каждом, кто пришел вкусить твоих красот, ты оживляешь память о мучительном начале жизни, когда впервые познаем мы боль, с которою уже не расстаемся до самой смерти. Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан, твоя идеальная сфера тешит взор сурового геометра, а мне она напоминает человеческие глазки: маленькие, как у свиньи, и выпученные, как у филина. Однако человек во все времена мнил и мнит себя совершенством. Подозреваю, что одно лишь самолюбие заставляет его твердить об этом, в глубине души он сам не верит в этот вздор и знает, как он уродлив, иначе почему с таким презрением смотрит он на себе подобных? Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан, ты символ постоянства, ты испокон веков тождествен сам себе. Твоя суть неизменна, и если шторм бушует где-то на твоих просторах, то в других широтах гладь невозмутима. Ты не то что человек, который остановится поглазеть, как два бульдога рвут друг друга в клочья, но не оглянется на похоронную процессию; утром он весел и приветлив, вечером – не в духе, нынче смеется, завтра плачет. Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан, в тебе, возможно, таится нечто, сулящее великую пользу человечеству. Даровал же ты ему кита[1]. Но из скромности ты оберегаешь от дотошных натуралистов тайны твоих сокровенных глубин. Не то что человек, расхваливающий себя по каждому пустяку. Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан, рыбьи племена, населяющие твои воды, не клянутся друг другу в братской любви. Каждый вид живет сам по себе, и если такое обособление кажется странным, то лишь на первый взгляд – различие в повадках и в размерах вполне его объясняет. Люди тоже живут порознь, но никакие естественные причины их к этому не побуждают. И хотя бы их скопилось миллионов тридцать на одном клочке земли, никому нет дела до соседа, и каждый словно пустил корни в своем углу. Все, от мала до велика, живут, как дикари в пещерах, и лишь изредка наведываются к сородичам, живущим точно так же, забившись в норы. Идея объединить все человечество в одну семью не что иное, как утопия, уверовать в нее способен лишь самый примитивный ум. При взгляде же на твою наполненную соком жизни грудь невольное сравнение приходит в голову, и думаешь о тех родителях – а их немало, – которые, забыв о долге благодарности перед Отцом Небесным, бросают на произвол судьбы своих отпрысков, детей стыда и блуда. Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан, твоя вода горька. Точь-в-точь как желчь, которую так щедро изливают критики на все подряд: будь то искусство иль наука. Гения обзовут сумасшедшим, красавца – горбуном. Должно быть, люди очень остро ощущают свое несовершенство, коли так строго судят! Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан, никакие новейшие приборы, никакие ухищрения человеческой науки пока не позволяют измерить твои бездны – самые длинные, самые тяжелые зонды не достают до дна. Вот рыбы… им доступно то, что запретно человеку. Как часто задавался я вопросом: что легче измерить – бездну влажных недр океана или глубины человеческой души? Как часто размышлял об этом, сжимая чело руками, на палубе бороздящего океан корабля, меж тем как луна подпрыгивала и болталась между мачтами, как мячик, – размышлял, позабыв обо всем, кроме этого непростого вопроса! Так что же глубже и недоступнее: океан или сердце человека? И если тридцать прожитых на свете лет дают хоть какое-то право на собственное суждение о сем предмете, то я сказал бы, что как ни велики глубины океана, но человеческое сердце несравненно глубже. Знавал я праведных людей. Они умирали, дожив лет до шестидесяти, и перед смертью непременно восклицали, что творили лишь добро на этой земле, что были милосердны, и это-де так просто, и это может каждый. Но кто поймет, почему любовники, еще вчера обожавшие друг друга, сегодня расходятся в разные стороны из-за какого-то неверно истолкованного слова, и каждого терзает жажда мести, и каждый кичится гордым одиночеством? Такие чудеса повторяются каждый день, но не становятся понятнее.
Кто поймет, почему нас радуют не только беды человеческие вообще, но и несчастья самых близких друзей, хотя они же нас и огорчают? И наконец, главное: человек лицемерен, он говорит «да», а думает «нет». Оттого-то все чада человечества так полны любви друг к другу. О да, психологам предстоит еще немало открытий… Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан! Как ты силен! На собственном горьком опыте убедились в этом люди. Они испробовали все, до чего только мог додуматься их изобретательный ум, но покорить тебя так и не смогли. И были вынуждены признать над собою твою власть. Они столкнулись с силой, превосходящей их. И имя этой силы – Океан! Они трепещут пред тобою, и этот страх рождает в них почтенье. Ты резво, легко и изящно играешь с их железными махинами, кружа их, словно в вальсе. Послушные твоим капризам, они взмывают вверх, ныряют в глубь зыбей так лихо, что любого циркового акробата разобрала бы зависть. И счастье, если тебе не вздумается затянуть их насовсем в кипящую пучину и прямиком отправить в свою утробу – тебе для этого не нужно ни дорог, ни рельсов, – чтобы они поглядели, каково там живется рыбам, да заодно составили им компанию. «Но я умнее Океана», – скажет человек. Что ж, возможно, и даже наверное так, но человек страшится Океана больше, чем тот страшится человека, и в этом нет сомненья. Сей патриарх, свидетель всего, что совершалось на нашей висящей в пространстве планете от начала времен, снисходительно усмехается при виде наших морских «битв народов». Сначала соберется сотня рукотворных левиафанов. Потом надсадные команды, крики раненых, пушечные выстрелы – сколько шуму ради того, чтобы скрасить несколько мгновений вечности. Наконец представление окончено, и Океан глотает все его атрибуты. Какая бездонная глотка! Она уходит черным жерлом в бесконечность.
А вот и эпилог: какой-нибудь утомленный, отбившийся от стаи лебедь пролетает над местом, где разыгралась эта вздорная и нудная комедия, и, не замедляя лета, думает: «Верно, у меня неладно со зрением. Только что тут внизу я видел какие-то черные точки, моргнул – а их уж нет». Привет тебе, о древний Океан!
О древний Океан, великий девственник! Окидывая взором бескрайнюю пустыню своих неспешных вод, ты с полным правом наслаждаешься своей природной красотою и теми искренними похвалами, что расточаю тебе я. Величавая медлительность – лучшее из всего, чем наградил тебя Создатель, мерно и сладостно твое дыханье, исполненное безмятежности и вечной, несокрушимой мощи; загадочный, непостижимый, без устали стремишь ты чудо-волны во все концы своих славных владений. Они теснятся друг за другом параллельными грядами. Едва откатится одна, как ей на смену уж растет другая, закипает пеной и тут же тает с печальным ропотом, который словно бы напоминает, что в этом мире все эфемерно, как пена. И люди, живые волны, умирают с таким же неизбежным единообразием, но их смерть не украшает даже пенный всплеск. Порою странница-птица доверчиво опустится на волны и повторяет их изящно-горделивые изгибы, пока уставшие крылья не окрепнут вновь, чтобы нести ее дальше. Хотел бы я, чтоб в человеке был хоть слабый отблеск, хоть тень от тени твоего величья. Я желаю этого от души и от души преклоняюсь пред тобою, но понимаю, что это значит желать слишком многого. Твой высокий дух, воплощение вечности, велик, как мысль философа, как любовь земной женщины, как дивная прелесть летящей птицы, как мечта поэта. Ты прекраснее самой ночи. Послушай, Океан, хочешь быть моим братом? Бушуй же, Океан… еще… еще сильнее, чтобы я мог сравнить тебя с Божьим гневом; выпусти свои белесые когти и расцарапай собственную грудь… вот так. О страшный Океан, гони вперед воинство буйных волн; один лишь я постиг тебя и простираюсь пред тобою ниц. Фальшивое величье человека не внушает мне благоговенья, лишь пред тобою я благоговею. Когда я вижу, как грозно ты шествуешь, увенчанный пенною короной, в сопровождении толпы придворных в белых кружевах, все подчиняя своей магической и страшной силе; когда слышу рев, что вырывается из недр твоих, словно исторгнутый раскаянием в каких-то неведомых грехах, глухой и неумолчный рев, который повергает в ужас и заставляет трепетать людей, хотя бы даже они смотрели на тебя с безопасного берега, – тогда я понимаю, что не вправе посягать на равенство с тобою.
Что ж, равняться с тобою не стану, но я бы отдал тебе всю мою любовь (никто не ведает, сколько ее скопилось во мне, вечно тоскующем по красоте!), когда бы ты не наводил меня на безрадостные мысли о моих соплеменниках, столь смехотворно выглядящих с тобою рядом: ты и они – что может быть комичнее подобного контраста! – вот почему я не могу любить тебя, вот почему ненавижу тебя. Так отчего же вновь и вновь меня влечет к тебе и тянет броситься в твои объятья и освежить твоим прикосновением мое пылающее чело? Я жажду знать о тебе все, жажду проникнуть в неведомый мне тайный смысл твоего бытия. Скажи, быть может, ты обитель Князя Тьмы? Скажи, скажи мне, Океан (мне одному, чтобы не пугать наивные души, живущие в плену иллюзий), уж не дыханье ль Сатаны – причина страшных бурь, что заставляет чуть не до небес взметаться твои соленые волны? Скажи мне будет отрадно узнать, что ад так близок. Еще одна строфа – и конец моему гимну. Итак, мне остается воздать тебе хвалу в последний раз и распрощаться! О древний Океан, струящий хрустальные воды… Нет, я не в силах продолжать, слезы застилают глаза, ибо чувствую; настало время вернуться в грубый мир людей… но делать нечего! Соберемся же с духом и свершим, как велит долг, предначертанный нам земной путь. Привет тебе, о древний Океан!



