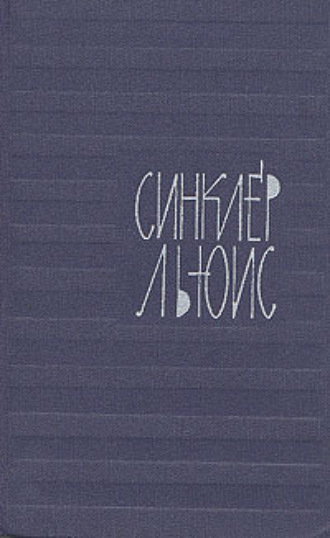
Синклер Льюис
Мотыльки в свете уличных фонарей
3
На следующее утро без двух минут девять Бейтс стоял у окна. Вошла стенографистка с письмами и телеграммами.
– Оставьте все на столе, – сказал он раздраженно.
В полминуты десятого в окне напротив вырисовалась фигура девушки. Бейтс помахал ей. Она кивнула в ответ. Затем повернулась к нему спиной. Тем не менее, разбирая почту, он что-то мурлыкал себе под нос.
С тех пор она всегда отвечала на приветствие Бейтса и, более того, иногда в течение дня бросала на него быстрые взгляды. Она смотрела на него лишь какую-то долю секунды, но теперь, просыпаясь по утрам, он уже нетерпеливо ждал этого. Его заржавевшее воображение, скрипя, заработало, он начал придумывать про нее всякие истории. Он был убежден, что при всех обстоятельствах она должна быть совершенно непохожей на заурядных, добродушных женщин из его конторы. Она была окутана тайной. Бейтс наградил ее семьей: у нее сухощавый и изысканный отец с орлиным носом, классическим образованием и ошеломляющей способностью менять профессии, поскольку, по одной версии Бейтса, он был епископ, по другой – ректор колледжа, по третьей – разорившийся миллионер.
Бейтс назвал девушку Эмили, ведь в этом имени заключалось все то, что невозможно выразить с помощью пишущих машинок и картотек. С Эмили воображение связывало пахнущие лавандой ящики комода, старинную парчу, вечерние сады с кустами алых роз, окропленных росой, просторные залы, белые панели стен и книги у камина. И не кто иной, как Бейтс, всегда возвращал ее в эти просторные залы со старинной парчой и в объятия ее отца – профессора-епископа-миллионера. Но как раз из-за этих фантазий Бейтс боялся встретиться с ней лицом к лицу, он боялся услышать ее голос, – вдруг первые незабываемые слова этой дамы с алыми розами будут: «Эй, вы, послушайте! Вы не тот ли парень, который пялит на меня глаза? Надо же, какой нахал!»
Однажды, когда Бейтс – хладнокровный и преуспевающий – степенно выходил из подъезда, он вдруг увидел, что и она выходит из подъезда напротив, и тут же нырнул обратно в вестибюль. Избежать встречи с ней было нетрудно. Два этих дома были подобны двум городам. В здании Бейтса работало две тысячи человек, в здании напротив – тысячи три, и в людских потоках, которые бурно изливались по вечерам на улицу, отдельные люди были так же неразличимы, как неразличимы солдаты в стремительно отступающей армии.
Только в конце октября он впервые разглядел выражение ее лица и впервые сквозь разделяющее их холодное, пустое пространство уловил ее улыбку. Дни становились короче, и электричество включали задолго до окончания работы, а при искусственном свете он видел ее яснее, чем при дневном.
С последней почтой Бейтс получил письмо из управления фирмы, в котором его уведомляли, не скупясь на похвалы, что впредь он будет получать на тысячу долларов в год больше. Всем на свете известно, что, когда вице-президентам повышают оклад, они в отличие от мальчишек-рассыльных ведут себя вполне благопристойно. Но как бы то ни было, Бейтс сначала помчался к двери, чтобы проверить, не идет ли к нему кто-нибудь, а потом несколько раз прошелся фокстротом вокруг стола. Он бросился к окну. Ему пришлось проделать это путешествие четыре раза, прежде чем она взглянула на него. Он стал размахивать письмом, чтобы привлечь ее внимание. Она сидела к нему вполоборота, и ему был виден только ее профиль, позолоченный светом лампы. Он протянул к ней руку с письмом и стал водить пальцем по строчкам, как бы читая вслух. Окончив чтение, он захлопал в ладоши и издал ликующий возглас.
Ее изящно очерченное, спокойное лицо дрогнуло, губы приоткрылись, она улыбнулась, закивала, захлопала в ладоши…
– Она… она… она все понимает! – задохнулся от радости Бейтс.
Он заметил, что иногда она не уходит в кафе, а тут же, за своим столом, съедает принесенный в коробочке завтрак – какой-нибудь пирожок, который она жует, задумчиво поглядывая на улицу; что по пятницам – потому ли, что в эти дни много работы, или потому, что ее недельное жалованье подходит к концу, – она всегда остается в конторе и что завтракает она ровно в двенадцать. Как-то в начале зимы, в одну из пятниц, он попросил хозяйку приготовить ему сандвичи и налить в термос кофе. Он знал, что его подчиненные с их неугасающим интересом к любым чудачествам шефа будут недоумевать, почему он завтракает в конторе… «Ладно, это их не касается», – подумал он неуверенно и как бы между прочим сказал своей стенографистке:
– Дел по горло! Пожалуй, не пойду сегодня завтракать! – Он прошел мимо стола бухгалтера Крэкинза, который, как подозревал Бейтс, был присяжным остряком конторы и коллекционировал промахи шефа в качестве материала для восхитительных сплетен: – Что, Крэкинз, некогда вздохнуть? Мне тоже не легче. В общем, наверно, не придется идти завтракать. Перекушу здесь.
Как только пробило двенадцать, он убавил слишком яркий свет над стеклом письменного стола, подвинул к окну стул и разложил свои яства на широком подоконнике. Эмили ела пончик и запивала его молоком. Бейтс поклонился, однако он скромно сжевал полсандвича, прежде чем справился со своим смущением и осмелился предложить ей кусочек. Она не шелохнулась, пончик как бы в раздумье замер в воздухе. Потом она вскочила и бросилась прочь от окна.
– А, будь я проклят! Болван! Скотина! Не дал ей даже спокойно позавтракать! Пристаю к ней, отравляю единственные свободные минуты!
Эмили вернулась к окну. Она показала ему стаканчик. Налила в него до половины молока из собственного стакана и нерешительно предложила ему. Он вскочил и протянул руку. Сквозь гудящее от ветра пространство он принял ее дар и ее приветствие.
Он рассмеялся и представил себе, что и она рассмеялась в ответ, хотя вместо ее лица видел лишь золотистое пятно, расплывающееся в слабых лучах осеннего солнца. Они сели и продолжали завтракать вместе. В тот момент, когда он уговаривал ее выпить еще чашечку кофе, он услышал, как открывается дверь и кто-то входит в комнату. Он лихорадочно стал рассматривать воображаемые пятнышки на чашке. Он не осмеливался обернуться и посмотреть на непрошеного гостя. Подняв чашку, он провел пальцем по краю и пробормотал:
– Грязная!
Непрошеный гость подошел ближе. С невинным видом Бейтс взглянул на него. Это был зубоскал Крэкинз. И Крэкинз ухмылялся:
– Муха в супе, мистер Бейтс?
– В су… Ах, да! Муха в супе. Да, грязная… очень грязная чашка… Придется поговорить… поговорить с хозяйкой, – пробурчал Бейтс.
– Простите, я не помешал вам? Мне только хотелось узнать, будем ли мы продлевать кредит Фермерской Железнодорожной Компании. Они на три недели просрочили платежи…
Показалось ли это Бейтсу, или Крэкинз в самом деле покосился в окно на Эмили?
С порывистостью, которая была ему так же к лицу, как мандолина – ирландцу-подрядчику, Бейтс вскочил с места и увлек Крэкинза в приемную контору. Ему пришлось задержаться там минут десять. Когда он вернулся, Эмили стояла, прислонившись к оконному косяку, а он представил себе, что она мечтает у венецианского окна во дворце епископа – мечтает, глядя на солнечные часы и кусты мальвы.
Она знаками показала, что пикник окончен: перевернула вверх дном черную коробочку и разочарованно развела руками, как бы говоря: «Пусто!» Он предлагал ей кофе, сандвичи, шоколад, но она все отвергала, застенчиво покачивая головой. Она указала на машинку, помахала рукой и села работать.
Близилось рождество, и Нью-Йорк был обуреваем таким дружелюбием, что люди, которые жили в одном доме всего семь лет, при встрече кивали друг другу. Бейтс гадал, неужели Эмили проведет рождество в одиночестве? Он хотел как-то поздравить ее, но ничего не мог придумать. Все же в канун рождества он притащил в контору огромный букет и с нетерпением стал ждать, чтобы Эмили взглянула на него. Только в половине пятого, когда включили электричество, он, наконец, добился успеха. Бейтс пристроил букет у самого окна и, прижав руку к сердцу, отвесил поклон.
Снег кружился в разделяющем их холодном пространстве, поток ледяного декабрьского воздуха омывал железобетонные и стальные утесы, но в эту минуту они были вместе, и улыбка преобразила ее лицо, словно сошедшее с обрамленной золотом миниатюры на желтоватой слоновой кости, лицо немного грустное и усталое, но озаренное нежной рождественской улыбкой.
4
Эмили исчезла, а ему так ее недоставало. Она не появлялась уже неделю, и однажды вечером к нему коварно подкралась тоска. Зима тянулась и тянулась и с каждым днем становилась все скучней и невыносимей. Снег, который был таким нарядным в декабре, к февралю превратился в грязное месиво. Не верилось, что когда-то было лето, что когда-то перекрестки улиц не утопали в слякоти, а на поворотах не сбивал с ног ветер. Бейтсу надоели театры, осточертели балы, и он всей душой ненавидел людей, которые на зиму съезжаются в город и вытесняют нью-йоркцев из их любимых местечек в маленьких кафе и ресторанчиках.
А тут еще Эмили исчезла. Он не знал, перешла ли она на другую работу или лежит больная, всеми заброшенная в какой-нибудь комнатенке с вытертым ковром и предается отчаянию. И он был тут бессилен. Он не знал ее имени.
Отчасти потому, что он страшился за ее судьбу, отчасти потому, что ему так недоставало ее, но в этот вечер, глядя на пустое окно напротив, он был особенно мрачно и нервно настроен. Внизу безумствовала улица – это была пляска сумасшедших на мокрых мостовых, залитых багряным светом уличных фонарей. Неистовые звонки трамваев, нетерпеливые грузовики, бешено несущиеся таксомоторы, изголодавшиеся по дому люди, которые, спотыкаясь, пробираются сквозь потоки транспорта или же стоят в самом водовороте, дрожа от холода, притоптывая мокрыми ногами и каждую минуту ожидая, что их раздавят. Неутомимая дрель била по нервам Бейтса – р-р-р-р, словно гигантская бормашина. Небо было яростным, по нему метались рваные облака в тускло-красных пятнах закатного зарева. И только свет в окне Эмили казался мирным, но Эмили там не было.
«Я так не могу. Я без нее измучился. Я не подозревал, что могу так тосковать. Да я и не жил раньше. Что-то со мной случилось. Я не понимаю! Не понимаю!» – говорил он себе.
На следующее утро она появилась в конторе. Бейтс глазам своим не поверил. Он все время подходил к окну, чтобы удостовериться, и каждый раз она махала ему рукой. Он сам удивлялся своей смиренной признательности за это приветствие. Эмили изобразила кашель, потом, прижав ладонь ко лбу, объяснила, что у нее был жар. Он задал немой вопрос – склонился щекой на руку, что на общечеловеческом языке означает лежать в кровати. Она утвердительно кивнула – да, она болела.
Бейтс отошел от окна, уже понимая, что рано или поздно должен познакомиться с ней, даже если она окажется из тех, что говорят: «Послушай, миляга!» Не может же он идти на риск снова ее потерять. Только… зачем спешить. Он хотел окончательно убедиться, что не будет смешон. В той среде, где он вращался, первой заповедью считалось: никогда не быть смешным.
Он отскочил от окна в припадке нелепой ревности, потому что служащие в конторе напротив пожимали руку Эмили, поздравляя ее с выздоровлением. Он начал думать о них и о ее конторе. Он не имел ни малейшего представления о том, что это была за контора: торгуют ли там нефтяными акциями или почтовыми голубями или занимаются шантажом. Контора была слишком современна, чтобы оповещать о своей деятельности надписями на окнах. Правда, по стенам были развешаны какие-то чертежи, но они могли иметь отношение к архитектуре, к машинам… к чему угодно.
Бейтс начал внимательно присматриваться к сослуживцам Эмили, и у него появились весьма определенные симпатии и антипатии. Шеф Эмили был вполне приличный малый, но девчонка-регистраторша, которая, по наблюдениям Бейтса, вечно хихикала над чуть надменной манерой Эмили, – эта девчонка была настоящей трущобной кошкой, и Бейтсу захотелось, как это водится в трущобах, надавать ей оплеух.
Желание защитить Эмили превратило Бейтса в какого-то наивного мистика. Прощаясь с ней, он посылал самую сокровенную частицу своей души незримо охранять Эмили, бодрствовать над ней в ночи. Он наблюдал за ее сослуживцами не как какой-нибудь досужий сплетник: нет, он пытался пробудить в них теплое чувство к Эмили.
Но не слишком теплое!
Бейтс относился с неодобрением к новому молодому служащему, который поступил в контору спустя неделю или две после возвращения Эмили. Молодой человек расхаживал без пиджака, но рубашка на нем, по-видимому, была шелковая; он носил большие интеллигентские очки в черепаховой оправе и с независимым видом курил отдававшую колледжем трубку. Он так вымуштровал свою черную, как вакса, шевелюру, что каждый устрашенный волосок твердо знал свое место и покорно оставался там целый день. Это был самоуверенный, легкомысленный, современный молодой человек, видимо, занимавший пост по меньшей мере заместителя управляющего. Он непринужденно беседовал с шефом Эмили, поставив ногу на стул и пуская из трубки облака серого дыма.
Этому молодому человеку, очевидно, нравилась Эмили. Хотя у него в клетушке, крайней слева, была своя стенографистка, он постоянно околачивался возле стола Эмили, и она заметно оживлялась в его присутствии. Он болтал с ней перед уходом, и тогда она поворачивалась спиной к окну, а там, напротив, Бейтс, позорно забросив все свои дела, стоял и бормотал себе под нос, что щенков надо топить.
Эмили по-прежнему махала ему рукой на прощание, но Бейтсу казалось, что она делает это слишком небрежно.
«Ну да, я просто верный старый пес. На сцене появляется некий юнец… и меня приглашают на свадьбу. Держу пари, ни один человек в Нью-Йорке не был столько раз шафером, сколько я. Я знаю свадебный марш не хуже, чем органист церкви святого Фомы, и могу нюхом определить, куда закатилось оброненное в ризнице кольцо. Конечно, только для этого я им и нужен», – роптал Бейтс.







