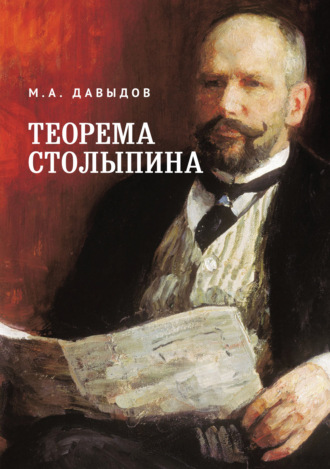
М. А. Давыдов
Теорема Столыпина
Сам Шульгин трактует «кое-какство» как «небрежность, неточность, недобросовестность», что кажется явным сужением поля термина, исходя из текста его монолога – ведь к этим определениям трудно свести дилетантскую внешнюю политику и провальную боевую подготовку армии и флота, стоивших России позора, перед которым померкли Аустерлиц и Крым.
Тут нужно говорить прежде всего о недостаточной компетентности власти на высших ее уровнях, о причинах которой позволяет судить конкретная информация Шульгина.
И когда погружаешься в историю русско-японской войны поневоле вспоминаются строки Ланжерона о том, что успехи России в главных отраслях военного искусства невелики. А причиной тому – «не столько беспечность двора», мало заботящегося о военном образовании, «сколько национальные предрассудки… Их самолюбие является причиною этого невежества, и невежество его поддерживает».
Многие русские офицеры, продолжает автор «считают искусство и науку в военном деле не только бесполезными, но даже и опасными (это было мнение князя Потемкина, которое он при мне поддерживал двадцать раз).
Искусство передвижений, расположения войск лагерем, составление диспозиций, сложные и искусные маневрирования, образцовые произведения искусства и тактики, высокие соображения Густава-Адольфа, Конде, Тюренна, Люксанбурга, Виллара, Мальборо, Евгения Савойского, Лаудона, Фридриха почитаются русскими за пустые химеры; их штыки и их казаки составляют всю их науку и, за исключением Румянцева, Каменского, Игельстрома и Прозоровского, я не знал ни одного генерала, русского родом, который не был бы пропитан этими смешными принципами»163.
Вспоминается и самое настоящее презрение к военной науке, которое любовно культивирует Л. Н. Толстой в «Войне и мире»[48].
Однако, справедливо возразят мне, с тех пор ситуация с военным образованием у нас кардинально изменилась, и конкурс в военные академии зашкаливал.
Это правда.
Но, судя по тому, что нам известно, это не уберегло наши вооруженные силы от неудач. Некоторые, условно говоря, газоны и вправду надо стричь 300 лет.
Между «как-нибудь» как основным правилом «русского царства и русской армии» А. И. Михайловского-Данилевского и «кое-как» М. И. Драгомирова лежит 90 лет. Воистину, в обоих высказываниях «слишком много мысли для такого малого количества слов».
И если мы интуитивно – и, убежден, – абсолютно верно улавливаем общее, что есть между ними, то это означает, что оба они покрывают типологически схожие явления.
Это значит, что за время правления четырех императоров и 10 лет царствования пятого в чем-то важном, а, возможно, главном Россия не изменилась.
Почему так произошло мы, надеюсь, поймем позже.
Правосознание «азиатства»
Мы, холопи твои, волочимся за судными делами на Москве в приказех лет по пяти и по десяти и болше, и по тем судным делам, нам, холопем твоим, указу [решения] нет. И мы, холопи твои, с московские волокиты вконец погибли…»
Коллективная челобитная дворян царю Михаилу Федоровичу 3 февраля 1637 г.
Нам сие велми зазорно, что… и у бусурман суд чинят праведен, а у нас вера святая, благочестивая, а судная росправа никуды не годная
И. Т. Посошков. «Книга о скудости и богатстве»
Не надеюсь я истребить плутни и воровство, но уменьшу непременно. А теперь на некоторое время и приостановились. Насчет грабительства говорю речи публично, и для удобнейшего понятия в самых простых выражениях.
А. П. Ермолов. 1817 г.
Русский либерал теоретически не признает никакой власти. Он хочет повиноваться только тому закону, который ему нравится.
Б. Н. Чичерин
Дореволюционная русская мысль была пронизана антиправовыми идеями, совокупность которых известна под не совсем точным названием «правовой нигилизм». Право очень часто понималось в России как нечто специфически западное, привнесенное извне, и отвергалось по самым разным причинам: во имя самодержавия или анархии, во имя Христа или Маркса, во имя высших духовных ценностей или материального равенства.
Анджей Балицкий. Философия права русского либерализма
Мама, здесь ни с кем нельзя договориться!
26-летний математик, переехавший из России в Германию. 2020 г.
Фактически еще одним развернутым эпиграфом к этой главе являются известные мысли Н. Г. Чернышевского о российском «азиатстве» (1859), которыми мне хочется предварить рассмотрение данной тематики.
Семантику термина он раскрывает так: «Азиатством называется такой порядок дел, при котором не существует никакой законности, не существует неприкосновенности никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность»164.
Закон здесь беспомощен, ибо господствует насилие, и более сильный может безнаказанно творить со слабейшими все, что ему угодно, а поскольку человеческих понятий у него нет, то им управляют только прихоти – добрые или дурные. Какой вид каприза возобладает в данной конкретной ситуации – первый или второй – зависит от самодурства сильного.
Верховенство этого самодурства безгранично, и каждый «азиатец» в общении с более сильным человеком стремится только угождать ему, иначе сильнейший, не видя покорности и раболепия, просто раздавит его.
«Мы часто обвиняем азиатцев за их раболепство», – заключает Чернышевский, – «но что же им делать, когда закон у них… бессилен? Водворите у них законность, и… они сделаются такими же людьми, как мы, европейцы!»165.
Не только вычеркнувшему в 1859 г. эти мысли цензору понятно, кого на самом деле имеет в виду Чернышевский, употребляя оборот «мы, европейцы».
Кстати, безжалостно заезженная мысль Пушкина о государстве как «единственном европейце» в России, говорит ровно о том же. Ведь из нее прямо следует, что, кроме одушевленного в этом случае государства, точнее, правительства, все остальные жители страны таковыми не являются.
Нет, мы – не европейцы, уже прямо говорит в другом месте Чернышевский, которого очень раздражала модная мысль о якобы «молодости России». Он считал, что века русской истории сформировали нашу «натуру», привив весьма специфичные навыки и черты характера, преодолеть которые нам крайне трудно.
«Основное наше понятие, упорнейшее наше предание», – констатирует Чернышевский, – «то, что мы во все вносим идею произвола… Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый.
Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев?
Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батый повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам – простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно»166.
А кроме этой многовековой привычки, у нас немало других, ей родственных.
«Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям»167.
Я намеренно начинаю с этих строк. Они дают, на первый взгляд, несколько утрированную картину российских правопорядка и правосознания, однако, безусловно, заслуживают внимания.
Поскольку говорят то, о чем не принято упоминать «при всех», цитируя анекдот о Петре I и будущем адмирале, тогда лейтенанте Мишукове[49].
Неудивительно, что почти все мысли Чернышевского в 1858 г. пали жертвой цензуры.
Однако не все разделяют эту пессимистичную точку зрения на роль права в истории нашей страны. Так, А. Васильев пишет о «банальном и неверном представлении большинства современных мыслителей, и в частности юристов, о низкой правовой культуре в России (так называемом, биче России – правовом нигилизме): отрицании права и его ценности для российской цивилизации. Главное заблуждение, в которое при этом впадают ученые, – оценка русской правовой культуры с точки зрения западноевропейских теорий верховенства права и закона в жизни общества как естественных прав человека во главе с идеалом свободной личности»168.
Никак не претендуя на ответственное наименование «мыслителя» и не будучи при этом юристом, признаюсь, тем не менее, что вполне разделяю эти «банальные и неверные представления». И делаю это, надо сказать, не в одиночестве.
Можно понять эмоции Васильева. Он, видимо, искренне уверен в правоте своих героев-славянофилов и стремится защитить их учение от тех, кто, подобно мне, считает верховенство права и закона в жизни общества необходимым условием процветания последнего, и кого не слишком убеждают рассуждения о том, что для русского народа мораль важнее закона[50]. К тому же историк, в том числе и историк права, должен, на мой взгляд, не оправдываться, а объяснять.
Увы, явно недостаточная ценность права в русской истории, низкая правовая культура населения нашей страны, правовой нигилизм, который является вовсе не «так называемым», а самым настоящим бичом России, – вещи настолько очевидные и притом банальные, что не требуют пространных доказательств.
Это вполне понятное и естественное следствие всеобщего закрепощения сословий, которое априори не предполагает повышенного внимания к правовой стороне бытия. Читатели уже имеют некоторое представление о том, в каком юридическом поле веками жила наша страна[51].
Р. Уортман пишет, что в отличие от Европы, где положение судов и юриспруденции – при всех сложностях – было в известной степени почетным, «самодержавие в России, всегда отстаивавшее превосходство исполнительной власти, пренебрегало отправлением правосудия, и это пренебрежение разделялось чиновничеством и дворянством.
Презрительное отношение к суду вполне устраивало чиновников, не желавших придерживаться рамок законности, и дворян, привыкших лицезреть власть в руках величественных правителей, воплощавших собою государственную мощь, которым они могли подражать в своих поместьях»169.
Проблема, конечно, несколько шире простого нежелания чиновников жить по закону и стремления дворян подражать верховной власти.
Как говорилось, всеобщее закрепощение сословий было мобилизационной моделью, пусть и архаичной. И читателям не нужно объяснять, как мало эта модель, построенная, по модному выражению, на «ручном» управлении страной, сочетается с правопорядком и насколько для нее исполнительная власть важнее законодательной – царям были нужны послушные воеводы и губернаторы, а не самостоятельные судьи и прокуроры. У дворян же издавна была привычка решать свои проблемы неформально, привычка так или иначе договариваться.
Отсюда восприятие права как чуждого элемента в нашей привычной жизни; частный случай такого восприятия – характеристика славянофилами римского права как «жестокого» – ведь там «dura lex sed lex».
Сказанное, разумеется, не означает, что в стране не было законов, не было судебной системы, и правосудие отсутствовало по факту. Это далеко не так. Есть даже мнение, что, например, в XVII в. отечественная система уголовного наказания была вполне сопоставима с западными образцами, что Россия в этом плане – один из вариантов нормы170.
Эта система по множеству объективных причин работала скорее плохо, чем хорошо, о чем повествует множество источников, не говоря уже о выразительных народных пословицах и поговорках. Достаточно сказать, что даже в первой половине XIX в. встречались неграмотные судьи171.
Весь имперский период самодержавие стремилось строить деятельность правительства на основе идей европейского права, что подтверждают попытки судебных реформ. Вместе с тем это стремление сплошь и рядом находилось в противоречии с вековыми житейскими традициями населения, а также и с привычками самих монархов, которые зачастую были неспособны выполнять собственные законы. Мы помним мысль Ланжерона о том, что нет страны, где властью принято так много «предосторожностей против злоупотреблений, как в России», и нет страны, где бы их не совершали в таком огромном количестве.
Ни Петр I, ни Елизавета Петровна, ни Екатерина II, ни Павел, ни Александр I не смогли, хотя и пытались, составить новое Уложение законов.
Только в 1830-х гг. появился, наконец, «Свод законов»[52], т. е. русское право удалось кодифицировать лишь с 10-й попытки (как считать)172.
Мы знаем, что государственный механизм в значительной мере был поражен коррупцией, которая нередко затрагивала и высших чиновников.
Мы имеем представление о системе военного интендантства.
Нам известны результаты ревизии государственной деревни 1836–1840 гг., которые также несложно экстраполировать на остальные сферы жизни страны. Иногда источники и литература рисуют такие картины тотального, повсеместного беззакония и воровства, которые не сразу умещаются в голове.
А потом в памяти всплывает, что любимой пьесой Николая I был «Ревизор». Затем вспоминаешь, как император отреагировал на информацию о том, что из примерно полусотни его губернаторов лишь ковенский А. А. Радищев и киевский И. И. Фундуклей не брали взяток, причем даже с винных откупщиков, что тогда как бы вообще не считалось за взятку: «Что не берет взяток Фундуклей – это понятно, потому что он очень богат, ну а если не берет их Радищев, значит, он чересчур уж честен»173.
И это сразу очерчивает «пейзаж» эпохи – «что охраняешь, то имеешь!».
Что там такие по-своему естественные мелочи, как, например, поборы землемеров и лесников с государственных крестьян, если Н. П. Дубенский, директор Департамента государственных имуществ Министерства финансов, до реформы Киселева ведавший казенной деревней, скупал пожалованные другим чиновникам аренды и незаконно получал земли казны! Его отдали под суд, но дело ограничилось лишением его звания сенатора.
Вот несколько показательных фактов.
Конечно, мы не можем считать повесть А. С. Пушкина «Дубровский» историческим источником о судебной практике конца XVIII – начала XIX вв., однако в нашем распоряжении есть и вполне реальные истории такого рода[53].
Так, будущий могущественный руководитель внешней политики Империи и ее канцлер А. А. Безбородко в бытность еще статс-секретарем Екатерины II (вторая половина 1770-х гг.) был пожалован казенным имением в Малороссии. Вводить его во владение приехал специальный поверенный, тут же заявивший претензии на часть смежного поместья дворянина Покорского, которое якобы раньше принадлежало пожалованному селению. Специальная комиссия, присвоив себе не положенные ей по закону судебные права, присудила Безбородко не только спорную землю с живущими на ней крестьянами, но и все остальное имение Покорского «взамен иска за насильственное владение»174.
Началась долгая тяжба между Покорским и Безбородко, который тем временем подарил имение тайному советнику О. С. Судиенко. Все судебные инстанции, включая Общее собрание Сената, несмотря на огромное влияние Безбородко, решили дело в пользу Покорского.
Дело перешло в XIX век. Министр юстиции И. И. Дмитриев внес об этом сенатский рапорт на имя Александра I в Комитет министров. Во время его обсуждения председатель Департамента законов Государственного Совета граф В. П. Кочубей (племянник Безбородко) как попечитель детей умершего Судиенко возбудил ходатайство о пересмотре этого решения в Государственном Совете. Однако этому органу по закону запрещалось принимать жалобы по тяжбам, и Комитет министров также единогласно постановил исполнить принятое Сенатом решение.
Однако через несколько дней Кочубей сумел переубедить членов Комитета министров, они отменили только что принятую резолюцию и приняли новую, по которой сенатское решение все-таки было передано для пересмотра в Департамент духовных и гражданских дел Государственного Совета175. Кочубей добился своего.
Какой там «Дубровский» с его несправедливостями уездного разлива! Уездов в России уже тогда были сотни…
Негативные мнения о работе судебной системы могли бы составить увесистый том.
Официальное юбилейное издание истории Министерства юстиции объясняет «печальное положение нашего правосудия» в момент вступления Николая I на престол тем «непроницаемым хаосом», какой «представляли собою те законы, коими надлежало руководствоваться судьям при исполнении своих судейских обязанностей»176. И к концу его правления ситуация не слишком изменилась.
Ключевский пишет, что в начале правления этот царь, желая вникнуть в положение дел, рассылал ревизоров, которые «вскрывали ужасающие подробности». Оказалось, например, что в Петербурге никогда не проверялась ни одна касса, все финансовые отчеты были заведомо фальшивыми, а несколько чиновников с сотнями тысяч рублей бесследно исчезли. Указы Сената подчиненные учреждения игнорировали. Около 130 тыс. человек сидело в тюрьмах, ожидая решения по двум миллионам дел, открытых в судебных местах. Согласно отчету министра юстиции, в 1842 г. во всех служебных местах империи не было завершено еще 33 млн. дел.
«Под покровом канцелярской тайны», – продолжает В. О. Ключевский, – «совершались дела, которые даже теперь кажутся чистыми сказками. В конце 20-х годов и в начале 30-х производилось одно громадное дело о некоем откупщике; это дело вели 15 для того назначенных секретарей, не считая писцов; дело разрасталось до ужасающих размеров, до нескольких сотен тысяч листов. Один экстракт дела, приготовленный для доклада, изложен был на 15 тыс. листов.
Велено было, наконец, эти бумаги собрать и препроводить из Московского департамента в Петербург; наняли несколько десятков подвод и, нагрузив дело, отправили его в Петербург, но оно все до последнего листа пропало без вести, так что никакой исправник, никакой становой не могли ничего сделать, несмотря на строжайший приказ Сената; пропали листы, подводы и извозчики»177.
Чем не сюжет для сериала?
Проведенная в 1840 г. ревизия департаментов C-Петербургского надворного суда обнаружила такую картину, что Николай I после знакомства с ее результатами «в порыве благородного негодования написал следующие строки: “Неслыханный срам; – беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна; Мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами Моими и Мне оставаться неизвестным”»178. Наряженные вслед за этой новые ревизии выявили, что «произвол и небрежение правосудия достигли в некоторых судебных местах неимоверной степени».
В сущности, о чем говорить, если сам министр юстиции граф Панин дал через директора департамента Топильского взятку в 100 руб. тем судейским, которые разбирали дело о приданом его дочери?179
Эту тему можно развивать еще долго.
А теперь, учитывая все сказанное выше, зададимся простым вопросом – какое правосознание могло воспитаться в подобных условиях у жителей страны, – от императора до крестьянина, включая дворян и чиновников?
Ответ прост – разумеется, нигилистическое.
Русский дворянин в принципе не мог вынести из реальной жизни уважения к праву как феномену.
Если ребенок с детства усваивает, что для ему подобных владеть живыми людьми так же естественно, как уметь читать, если он взрослеет в мире, построенном на идее неограниченного крепостного права, если, став офицером или чиновником, он наблюдает или сам участвует в том, что Коллманн деликатно именует «экономикой даров», а мы – просторечно – коррупцией, то носителем каких правовых понятий он может быть в зрелом возрасте?
С судом он сталкивается большей частью, когда судится за поместья и наследство, – замечу, в условиях «неопределенного юридического быта» и беззастенчивой манипуляции законодательством.
Откуда там было взяться пиетету к законодательству?
Отдельными людьми правовой нигилизм выражался сугубо индивидуально и мог облекаться в разные формы.
Напомню известную мысль H. М. Карамзина из «Записки о древней и новой России»: «В России Государь есть живой закон; добрых милует, злых казнит… наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает детей без протокола, так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести»180. Эта мысль, на мой взгляд, едва ли не лучшее из определений патернализма.
В Отчете III Отделения за 1842 г. читаем: «Преимущество самодержавной власти состоит прежде всего в том, что самодержавный властитель имеет возможность поступать по совести и в определенных случаях бывает даже вынужден пренебрегать законом и решать вопрос так же, как отец разбирает спор своих детей; ибо законы – это создание человеческого ума, и они не могли и не могут предусмотреть все намерения человеческого сердца»181.
Таким образом, один из крупнейших интеллектуалов и тайная полиция одними и теми же словами говорят о необязательности применения закона, о возможности и даже необходимости его избирательного действия и пр.
Мотивы у них при этом, возможно, не вполне одинаковые[54], но это и не важно. И, конечно, не случаен системоцентричный образ царя-отца семейства, членами которого являются все дворяне, а при случае – и весь народ страны.
А. Балицкий пишет, что «враждебное или по крайней мере глубоко подозрительное отношение к рациональному правопорядку можно в большей или меньшей степени обнаружить во всех отсталых и периферийных обществах, а особенно в тех, где модернизация приняла вид вестернизации и где поэтому современная правозаконность представляется враждебной их самобытной культуре и свойственной только Западу В дореволюционной России такая тенденция была, вероятно, особенно выразительна»182. Однако он не склонен преувеличивать «природную вражду между русским характером и духом законов».
Балицкий весьма убедительно помещает правовые воззрения русских людей в контекст идейных исканий европейской мысли XIX в.; так, славянофилов он именует «романтическими антилегалистами».
Для нас сейчас это не очень важно.
Проблема была не столько в том, кто и под чьим влиянием критиковал в России право и законы в XIX в., а в том, что новейшие философские искания наслаивались на вынесенный из средневековья правовой нигилизм. Большинство русских дворян и знать не знало ни о Ж. де Местре, ни о романтической критике европейскими мыслителями рационализма Великой Французской революции и др.
Однако истории, в том числе и семейные, типологически близкие к описанным С. Т. Аксаковым, знали многие. Одних этих историй было достаточно, чтобы поселить у него самого, его детей, «Багровых-правнуков», и их современников весьма скептическое отношение к правопорядку – в широком смысле.
Напомню, что, пытаясь объяснить слабость в нашей истории правового начала, К. С. Аксаков изобрел теорию о внутренней и внешней правде, противопоставляя нравственную оценку явлений механически действующему законодательству.
Поскольку для русского народа, по его мнению, «внутренняя» морально-нравственная «правда» всегда была важнее «внешней правды» закона, то это – в числе прочего – доказывало преимущества нашего этического подхода к жизни над эгоизмом западной культуры, построенной на «безжалостном» римском праве, которому и дела нет до «всех намерений человеческого сердца».
Славянофилы, как известно, активно использовали теорию М. М. Погодина о том, что европейские государства основаны на завоевании власти, а Русское – на ее призвании.
Поэтому эти государства могли быть только принудительным соединением оккупантов и покоренного населения, и римское право со своим формализмом и стремлением разобрать богатство жизни на мельчайшие детали оказалось подходящей внешней формой, чтобы поддержать эту искусственную конструкцию.
А на Руси взаимоотношения между государством и народом складывались, по славянофилам, принципиально иначе. Здесь народ понимал, что он должен «хранить и чтить» добровольно призванную им в лице Рюрика власть, а власть, в свою очередь, осознавала, что народ, пригласивший ее, не является «униженным рабом, втайне мечтающим о бунте», он – «свободный подданный, благодарный за ее труды и друг неизменный».
Однако, заметим мы, подобные отношения должны основываться на полном доверии между обеими сторонами. Но как быть, если вдруг однажды доверие нарушится? В жизни такое случается. Значит, нужны какие-то обязательства, нужна гарантия того, что согласие будет сохраняться.
На это К. С. Аксаков дает знаменитый ответ: «Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла. Вся сила в идеале.
Да и что значат условия и договоры, как скоро нет силы внутренней? Никакой договор не удержит людей, как скоро нет внутреннего на это желания. Вся сила в нравственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому что она всегда в него верила и не прибегала к договорам»183.
Что и говорить – сформулировано сильно и красиво! Хотя русская история и не вполне подтверждает сказанное.
Нельзя, однако, не вспомнить Н. А. Бердяева заметившего на этот счет, что «гарантий прав человеческой личности не нужно в отношениях любви, но отношения в человеческих обществах очень мало походят на отношения любви» и что «отрицание правовых начал опускает жизнь ниже правовых начал»184. Правоту Бердяева подтверждает вся история крестьянского правопорядка после 1861 г., в основе которого лежали конструкции славянофилов и итоги эволюции которого Россия подвела в ходе катаклизмов начала XX в.
Напомню две известные и, увы, вечно актуальные для нас мысли родоначальника левого народничества А. И. Герцена:
1. «Мы повинуемся по принуждению; в законах, которые нами управляют, мы видим запреты, препоны и нарушаем их, когда можем или смеем, не испытывая при этом никаких угрызений совести»185;
2. «Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школою. Вопиющая несправедливость одной части законов вызвала в нем (русском народе – МД.) презрение к другой. Полное неравенство перед судом убило в нем в самом зародыше уважение к законности. Русский, к какому бы классу он ни принадлежал, нарушает закон всюду, где он может сделать это безнаказанно; точно так же поступает правительство. Это тяжело и печально для настоящего времени, но для будущего тут огромное преимущество»186.
Плюсы беззакония для будущего мы оценим чуть ниже, а пока заметим, что эти хрестоматийные мысли Герцена настолько верны, точны и так категорично сформулированы интонационно, что кажется, будто его не устраивает положение, при котором народ и власть как будто соревнуются в наплевательском отношении к закону.
Однако такое предположение было бы неверным. Герцен был законченным правовым нигилистом – и как социалист, и как де-факто славянофил – не только из-за критики несовершенства Европы, но и из-за наплевательского отношения к европейской культуре, науке и праву.
Чичерин вспоминает: «Я говорил ему (Герцену – М. Д.) о значении и целях государства, а он мне отвечал, что Людовик-Наполеон ссылает людей в Кайенну.
Я говорил, что преступление должно быть наказано, а он отвечал, что решительно не понимает, каким образом учиненное зло может быть исправлено совершением другого, такого же зла»187.
Герцену принадлежит такая, например, мысль: «Разве какому-нибудь юристу легко признаться, что все уголовное право – нелепая теория мести; что лучший уголовный суд – очищенная инквизиция; и что в лучшем кодексе – нет ни логики, ни психологии, ни даже здравого смысла?»188. Под этими словами подписался бы и Л. Н. Толстой.
А вот еще одна весьма характерная, чисто славянофильская сентенция: «Западное миросозерцание, с его гражданским идеалом и философией права, с его политической экономией и дуализмом в понятиях, принадлежит к известному порядку исторических явлений и вне их несостоятельно»189.
Иными словами, правовое государство не является ни магистралью развития всего человечества, ни идеальной целью автора. Оно вообще не обязательно.
Правовые воззрения Герцена вполне проясняются, когда он специально рассматривает эту тему. Многие из русских, пишет он, и, в частности, Чаадаев недовольны «отсутствием у нас того элементарного гражданского катехизиса, той политической и юридической азбуки, которую мы находим… у всех западных народов.
Это правда – и если смотреть только на настоящее, то вред от этих неустоявшихся понятий об отношениях, обязанностях и правах делает из России то печальное царство беззакония, которое ставит ее во многих отношениях ниже восточных государств.
В самом деле, идея права у нас вовсе не существует или очень смутно; она смешивается с признанием силы или совершившегося факта, (то есть «батыевщину» сознает не только Чернышевский – М. Д.)
Закон не имеет для нас другого смысла, кроме запрета, сделанного власть имущим; мы не его уважаем, а квартального (т. е. полицейского – М. Д.) боимся…
Нет у нас тех завершенных понятий, тех гражданских истин, которыми, как щитом, западный мир защищался от феодальной власти, от королевской, а теперь защищается от социальных (т. е. социалистических – М. Д.) идей: или они до того у нас спутаны, искажены, обезображены, что самый яростный западный консерватор от них шарахнется назад.
Что, в самом деле, может сказать в пользу неприкосновенной собственности своей русский помещик-людосек, смешивающий в своем понятии собственности огород, бабу, сапоги, старосту?
Все это так.
Но тут-то мы сейчас и разойдемся»190.
Чем же его не устраивает взгляд Чаадаева и его единомышленников на законность, с которым он собирается расходиться и действительно расходится?
Тем, что, находясь на почве законности, невозможно совершить вожделенный прыжок из крепостного права в социализм. Ведь Запад именно из-за «привязанности» к правовому началу никогда не сможет перейти к социализму.
Он начинает убеждать читателя в диалектических преимуществах «печального царства беззакония», вспоминая, например, как писатель и дипломат князь П. Б. Козловский сообщил «очернителю» маркизу де Кюстину, что в русском обществе существует недостаток «рыцарских понятий», с которыми связано не только самоуважение, но и уважение личного достоинства в других людях.
Мысль совершенно правильная, пишет Герцен. Только представьте, что было бы с Россией, «если б у нас вместо выслужившихся писарей и вахмистров, вместо царской дворни и разных Собакевичей и Ноздревых была, например, аристократия вроде польской? Для дворян это было бы лучше, нет сомнения; они были бы свободнее, они шире бы двигались, они бы не позволяли ни царям обращаться с собою, как с лакеями, ни лакеям на службе обращаться с ними по-царски – против этого спорить нельзя».





