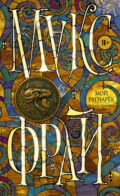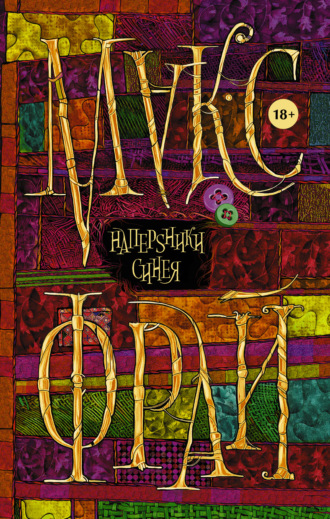
Макс Фрай
НаперSники синея
Всякий раз,
когда вижу вот эти озера сумеречного бирюзового света в полуночном небе, вдыхаю холодный воздух, густой от аромата жасмина (в жопу «чубушник», жасмина!) и диких северных роз, мне кажется, что я недостаточно остро все это чувствую, слишком слабая реакция, не соответствующая происходящему вокруг северному летнему полуночному миру, с веселым птичьим щебетом, подпрыгивая на кочках, летящему в самый солнцеворот. Потому что нормальной реакцией, соответствующей происходящему, было бы взорваться сердцем и умереть вот прямо сейчас, пока бирюзовые окна рая открыты нараспашку, и оттуда громко, не стесняясь щебечущих птиц и орущих котов, уже зовут домой, ужинать.
Но я еще погуляю, конечно. У нас тут шиповник, качели, чай в термокружке и еще костер.
И этот костер – я.
Какой может быть ужин.
Вчера мы стояли на берегу речки
Вильняле, которая совсем слетела с катушек, возомнила себя настоящей бурной горной рекой, и по ней на бешеной скорости, с ревом и грохотом летела вся вот эта дурацкая ледяная каша, вся эта ваша осязаемая материя, данная нам в сильных ощущениях – бум! – ой!
Если долго сидеть на берегу такой взбесившейся реки, задница примерзнет, несмотря на бодрый вчерашний плюс один. Зато если долго стоять на берегу реки, можно увидеть, как ледяная каша несется в обе стороны сразу – очень быстро вниз по течению и гораздо медленней – вверх. Если стоять еще дольше, крепко держась за перила ограды, потому что иначе просто не устоишь, можно наконец понять, вернее, увидеть, что оба эти потока, быстрый и медленный, на самом деле один поток, во всех направлениях сразу. Реки даны нам в качестве учителей, чтобы наглядно демонстрировать действующую модель времени: «сейчас» – это и есть всегда. И одновременно везде, хотя кажется, будто категория «везде» – это уже о пространстве.
А пространство – это же просто одно из измерений времени. «Всегда» без «везде» не бывает, равно как и никакого «сейчас» не может быть без «здесь».
Но штука даже не в этом. А в том, что, если в первый день оттепели стоять на берегу быстротечной реки долго-долго, минуту или полторы, можно ощутить, с какой скоростью несется наша планета. Это очень приятная штука – ощущать вращение Земли. Только за прутья ограды нужно держаться очень крепко, чтобы не улететь насовсем.
Г
Где твои деньги?
Самая гнусная, подлая, лживая разновидность материализма выражается формулой: «Если ты такой умный, где твои деньги?»
Я хочу сказать, что, пока мы оцениваем себя и ближних, прибавляя к подлинным или мнимым (в данном случае совершенно неважно, оценка всегда субъективна) достоинствам способность обеспечивать себя кормом или вычитая неспособность это сделать, мы – слоны, несущие на своих спинах безрадостный ад материалистической концепции, в рамках которой жизнь – это питание, размножение, выкармливание потомства и быстрая смерть ради освобождения кормовых площадок для нового поколения. И индивидуальные особенности нецелевого использования теплых сортиров, известные под названием «личностный рост», ничего не меняют. Мало ли о чем таком возвышенном думает слон, пока он честно держит на своей спине ад, чертям это не особо мешает.
…Способность зарабатывать деньги сама по себе не «хороша» и не «плоха», наличие этой опции – вопрос удачи в гораздо большей степени, чем принято думать. В разные времена и в разных культурах хорошо оплачиваются разные способности, склонности и свойства характера; в итоге вопрос всегда стоит так: насколько удачно ты прицелился, выбирая место рождения. Вот и все.
А когда прицелился неудачно, ради прокорма приходится задвигать себя в сторону. Есть устойчивое убеждение, будто способность прокормиться – сверхценность. Строго говоря, это и есть материализм. А вовсе не решительный отказ истово креститься на Мачу-Пикчу.
Способность задвинуть в сторону всего себя, со своими особенностями, страстями, желаниями, интересами ради прокорма все еще почитается добродетелью, а на самом деле она – просто разновидность готовности капитулировать, покориться материальности мира, данной нам в ощущениях, довольно острых и неприятных, когда доходит до недостачи корма. Понятная слабость, в той или иной степени свойственная всем, кроме лучших из лучших, для которых, впрочем придуман универсальный выход: умирай молодым. И возмущенный вой социума: «Как это – нет?» – в тех редких случаях, когда эти суки отказываются. И еще какое-то время живут среди нас, подъедая жалкие крошки, упавшие со столов честных добытчиков корма, хором вопрошающих: «Если ты такой умный, где твои деньги?»
Где-где.
Мало что я ненавижу так сильно, как эту вашу самодельную мясорубку.
Городские новости
На Кафедральной площади поставили елку. С окнами и балконами. С нетерпением жду, когда на балконах повесят сушиться белье.
Белье пока не повесили, зато вокруг елки нынче вечером водили хоровод войска НАТО (не в полном составе, только некоторые представители) с оркестрами.
У этого города чувство комического, пожалуй, даже более причудливое, чем у меня.
Д
Две прехорошенькие девицы
идут по улице, катят велосипеды, что-то обсуждают. Обгоняя их, слышу, как одна говорит: «А потом все закончится, и я стану, как мама».
Диалоги о художниках
Альгирдасу
– Мне в Барселоне рассказали, что Гауди все время по городу с бутылкой восьмидесятиградусного абсента ходил, такой был пьянчужка. Это многое объясняет.
– В смысле он все эти годы пытался сделать ровненько и аккуратненько?!
* * *
– Такая сначала была хорошая затея – сюрреализм. Вдруг какие-то художники решают, что пора начать говорить о невидимом, непостижимом и непроизносимом. О таком, что в человеческий ум не помещается вообще, но в целого человека более-менее помещается. Вот как сон, который вспомнить невозможно, но он же был! И если как-то пытаться о нем говорить, то только языком искусства. Вот какой должен был быть сюрреализм! И вдруг внезапно на сцене появляется Сальвадор Дали, и начинается эстрада.
– Все эти циферблаты стекающие, да?
– И прочее такое же – в лоб. Вернее даже, что в лоб, что по лбу. Но цветное, красивенькое. Ровно та степень странности, которая помещается в человеческую голову маленькую, твердую, одна штука, второй сорт. И теперь считается, что это и есть сюрреализм. Даже у меня со словом «сюрреализм» первая ассоциация – Дали. Ужас!
– Пустили бы его делать театральные декорации. Задники для сцены. У него отличные задники получались бы. И времени ни на что больше не оставалось бы. И всем было бы хорошо.
– Точно! Ты тоже не любишь Дали? Дай я тебя обниму немедленно!
– Вот за это меня еще никто никогда не обнимал.
– Я тебя еще и за Гауди не побью теперь!
– Очень жаль. Потому что за Гауди меня тоже еще никогда не били.
* * *
– …вот некоторые художники умеют делать, а некоторые просто умеют найти мецената.
– Ха! Найти мецената – это такой талант, что нам всем и не снилось.
– Да. Вот я не нашел. Двадцать лет зарабатывал деньги, потом пришел сам к себе, сказал: давай я тебя издавать буду. И стал издавать книги (имеются в виду альбомы фотографий), одну за другой. Если бы не было денег, ничего бы не издал. И никто бы сейчас меня не вспомнил. И на Биеннале не позвали бы. И Национальную премию не получил бы. Хотя художник все тот же – я. Но без денег ничего бы не было. Сам себе меценат.
– Это еще ничего. Могло быть хуже. Вот прикинь, заработал ты все эти деньги. Приходишь потом сам к себе, говоришь: «Давай ты будешь меня издавать!» И сам себе: «Да ну, иди в жопу, фуфло ты, а не художник, я лучше самолет куплю».
– Какой самолет?! Там было максимум на пол-крыла.
– Ничего. Настоящего мецената, не желающего давать деньги гению, такие пустяки не останавливают.
* * *
– Нет никакой справедливости. Попасть в историю искусства – просто выигрыш в лотерее.
– А если ты очень крутой, сто пудов ни в какую историю не попадешь. Потому что настоящая тайна сама себя бережет. Ты, например, гений, а человечество – не гений. И ему пока такое искусство рано показывать, не переварит. Тогда тебя вообще никто не заметит. Ну или заметят, но в первый ряд точно не поставят.
– Вот как Клее, например.
– Да! Вот смотрит Вселенский разум с небесей: «Чо это там у нас друг Пауль затеял? Ой-ой-ой, куды ж он поперед батьки в пекло? Нельзя такое пока! Ой, чо делать, чо делать? Так. Выпускаем Дали. Щас он шум поднимет, внимание отвлечет, и все будет путем». Ну и выскакивает такой Дали – оп-па! И пляшет канкан. И все вокруг: «Ах, гений! Ах, сюрреализьм!» А Клее себе дальше тихонько свое херачит, ему-то пофигу.
– Или вот мы, например, свое тихонько херачим. А там на небесах…
– Вселенский разум уже задолбался эту эстраду на землю поставлять. У него бедного уже мозоли на тех местах, которыми сальвадордалей лепят! Но ничего не поделаешь, надо.
* * *
– Я был у нее дома один раз, помог пакет с вещами занести. Такая стандартная двухкомнатная квартира в панельном доме. В одной комнате все обычно, простенькая такая обстановка. Она говорит: «Брось пакет в другой комнате». Я открываю дверь, а там войти невозможно, вся комната заставлена…
– Картинами?
– Нет, всяким говном. Она его оттуда понемножку вынимала и на холсты клеила. Но сколько там наклеишь. Комната была заставлена так, что пакет некуда положить. А она мне кричит: «Наверх швыряй!» Я забросил пакет куда-то наверх кучи и быстро-быстро дверь закрыл, чтобы он обратно не вывалился.
– Вот удивительно. У меня в последней книжке ровно такая же ситуация с художником. Тоже дом так хламом завален, что дверь открыть невозможно…
– Вот! Теперь ты понимаешь, как у нее было много хлама? Я дверь-то всего на полминуты приоткрыл, а хлам оттуда в твою книжку вывалился!
Дитя из преисподней
Внезапно нас замело, и установились лютые морозы. Минус два, если не все четыре. Поэтому весь выпавший снег пока лежит – до завтрашней оттепели.
При такой небольшой отрицательной температуре запах снега становится очень сильным. Эссенция, концентрат, абсолют снега. Вторая, не менее яркая нота – абсолют печного дыма. Вокруг много частных домов с печами.
Эта смесь – один из запахов моего детства. Снег в Берлине выпадал редко, оставался лежать еще реже. Обычно сразу таял. Но если не таял, лежал целый день или два. Или даже три. Иногда такое случалось аж дважды за зиму. А иногда, для равновесия, не случалось вовсе. За шесть лет, что мы там прожили, совершенно точно были две зимы, когда на санках покататься так и не удалось. Это значит, четыре зимы были снежные. Ну как снежные – дня два или три были наши, а большего никто и не ждал.
…В те редкие бесконечно счастливые морозные (минус два, если не все четыре) дни запах снега смешивался с запахом дыма из труб придомовых котельных. У нас во дворе было два двухэтажных многоквартирных дома, при каждом своя котельная. Топили углем.
Топила, собственно, моя мама. То есть не только она, еще три тетки. Работали сутки через трое. Но, конечно, не сидели в котельной сутки напролет, а бегали туда раз в пару часов посмотреть, как дела, подбросить угля. Потом снова возвращались домой. Два раза в сутки там надо было производить какие-то сложные действия, кажется, чистить печь, но тут на помощь хрупким женщинам-кочегарам приходили мужья – с утра перед службой и вечером перед сном.
Поэтому работа в кочегарке считалась – не бей лежачего.
Впрочем, даже если бы она считалась трудной, это ничего бы не изменило. За работу платили гэдээровские марки, а марок ощутимо не хватало. Там какие-то сложности были с этими марками – их военным (по крайней мере, прапорщикам и старшинам) платили мало, далеко не всю зарплату, а только часть. Другая часть оседала в рублевой форме на сберкнижке и обмену на марки не подлежала. Поэтому все жены пытались найти работу на месте, все равно какую, кочегарка – это еще отличный был вариант. Сутки через трое, раз в два часа угля в печь подбросить, и за это марки дают. Невообразимо повезло.
Меня в кочегарку особо не пускали, но иногда все-таки удавалось пробраться. В кочегарке царил красноватый огненный полумрак, было очень тепло, пахло подвальной сыростью. Как выглядели сами отопительные агрегаты, я, конечно, толком не помню. Только багровое пламя, вырывающееся из печи, когда открывают заслонку, и темные тени огромных котлов.
Ничего удивительного, что когда мне в руки попала книжка с картинками про чертей и пекло (впрочем, есть у меня подозрение, что это была даже не книжка, а просто карикатура в журнале «Крокодил»), узнавание произошло мгновенно. Да это же наша кочегарка!
За первым радостным открытием последовало второе, еще более радостное: если моя мама топит печку в пекле, значит она – черт!
Ну и папа, наверное, тоже черт, если ходит ей помогать. И тетя Шура, и тетя Римма, и третья тетя, не помню, как ее звали – черти, определенно. Меня окружают настоящие черти из пекла. Вот это, братцы, жизнь!
Это открытие совершенно меня окрылило. И вовсе не потому, что меня с младенчества терзала неодолимая тяга к сатанизму. Не терзала! Мне просто хотелось интересного. Интересного вокруг было много, но не очень. Были мы с родителями, были другие люди, подозрительно на нас похожие, были немцы, тоже похожие на нас, но с другим языком, были монголы, самые прекрасные существа на земле, нечеловечески раскосые, плосколицые и в красивых одеждах. И все! Никакого разнообразия, никаких волшебных существ.
И тут вдруг внезапно выясняется, что мы только с виду люди, а на самом деле – черти. А черти – крутые чуваки, про них сказки пишут. А значит, и про нас. Мы – те, с кем происходит все самое интересное. Какое счастье!
Хотя выглядели мама с папой и все эти тети-кочегары все-таки неподобающим образом. Где рога? Где, спрашиваю вас, хвосты?! Как – нет? И у меня, что ли, не отрастут с возрастом? Ну нет, я так не играю.
Мои осторожные вопросы про рога, копыта и хвосты явно испугали родителей, так что расследование пришлось прекратить. Тем более, что ничего путного допрашиваемые не сообщили. Тогда пришлось привлечь собственный аналитический ум и создать очень логичную и правдоподобную версию, что мы маскируемся. Что мы черти из пекла – это тайна. Чего-чего, а шпионских романов в библиотеке, куда родители ходили за книжками, хватало, так что теоретическая база у меня была уже к пяти годам. И ясно было, что тайну надо хранить и не признаваться.
Пришлось взять себя в руки и не хвастаться нашим удивительным чертовским статусом во дворе. И даже соседка тетя Валя, с которой у меня были очень доверительные отношения, так ничего и не узнала.
Но не могу же я всю жизнь терпеть и не сознаваться! Тем более, столько лет прошло. Родителей уже на этом свете нет, маминых коллег – не знаю, но подозреваю, что тоже. А если и есть, я же их паспортные данные не разглашаю. Авось обойдется.
Для души
Некоторые граждане рассуждают про сортировку информации по принципу «полезно-опасно для души»; неважно по какому поводу.
Важно, что я уже сутки ору на своей внутренней кухне, стуча внутренним кулаком по внутреннему столу, заставленному пустыми бутылками из-под внутренней, какой же еще, водки.
«Опасно для души! Опасно! Для души!» – примерно вот так я ору.
Подразумевая, конечно же, что все самое так называемое опасное для так называемой души уже случилось в момент опрометчивого рождения этой самой души на планете Земля, а теперь поздняк метаться, хуже уже не бывает, следовательно, будет только лучше. Ну или вообще никак.
Донкихотство как выгодная долгосрочная стратегия
1. В детстве мы вынуждены быть идеалистами – просто вследствие нехватки информации об окружающем мире. Все лакуны мы заполняем самостоятельно. И, естественным образом, заполняем их так, чтобы результат нравился нам. В итоге получаем идеалистическую картину мира, более-менее устраивающую нас, особенно в местах самостоятельно заполненных лакун.
(Тут следует уточнить, что идеалистическая картина мира вовсе не обязательно предлагает всеобщую доброту, рыцарство и прочий сказочный героизм с хорошим концом. Она вполне может предполагать возможность счастливо бездельничать, поедая бутерброды! Мало ли кто как представляет себе идеальный гармоничный мир, в котором хочется жить.)
2. Всякое взросление почти неизбежно сопровождается увеличением объема информации об окружающем мире и почти неизбежным же крушением наших идеалов. Потому что какими бы умными детками мы ни росли, а додуматься до более-менее реалистичной картины мира шансов у нас немного. И случайное совпадение детских идеалов с истинным положением дел тоже, мягко говоря, маловероятно.
3. Можно сколько угодно объяснять сложности подросткового возраста биологически – дескать, в это время детям пора уходить из стаи и начинать самостоятельную жизнь. Однако наиболее интересная часть правды заключается в том, что именно в этом возрасте происходит крах идеализма, сопровождаемый как справедливым негодованием по поводу взрослых, умудрившихся так хуево все устроить, так и естественным желанием построить свою прекрасную реальность с блэкджеком и феями. Или вампирами. Кому чего.
4. Построить свою прекрасную реальность человеку оказывается слабо. Это нормально вообще – обнаружить, что хрен ты ее сам себе построишь. И существующую не отменишь. Такая беда.
5. Суицид (быстрый или медленное саморазрушение, кому как больше по сердцу) – самая честная реакция на крушение идеалов. Но люди довольно редко бывают настолько честны, поэтому большинство выходит из этого кризиса живыми. И тут встает самый интересный вопрос: что дальше?
6. Вопрос интересный, но ответы на него довольно однообразны. Большинство переживших крушение идеализма выбирает сдаться и перейти на сторону врага. То есть стать естественной, органичной частью той самой реальности, об которую расхуячились их идеалы. Зоологический инстинкт самосохранения подсказывает, что так больше шансов выжить, дать потомство и выкормить его.
Это, кстати, правда. Действительно гораздо больше.
7. Штука в том, что каждый человек знает, что идеалы (любые, самые дурацкие, но идеалы) – это хорошо. А отказ от них – плохо. Но «знает» не означает «осознает». С осознанием этого факта (и вообще с осознанием) у уважаемого человечества на данном этапе развития довольно хреново обстоят дела. Поэтому недовольство своим поражением и переходом на сторону противника остается неосознаваемой внутренней болью, которая не мешает сладко питаться, активно размножаться и откусывать головы потенциальным конкурентам, но при этом постепенно разрушает психику и вообще не дает жить.
8. Потому что идеалы – это область духа. Следствие нашей активной коммуникации с ним. Наши идеалистические представления – это личные письма, написанные духом для каждого из нас. На непонятном, конечно, языке написанные, окончательно превращенные в бред сивой кобылы нашей неумелой интерпретацией, но изначально содержавшие смысл, важный для нас, как само бессмертие. Потому что он и есть бессмертие, этот смысл. И от неправильной интерпретации никуда не девается, просто отступает на задний план. Но остается с нами.
9. И крушение идеалов при столкновении с реальностью выглядит как капитуляция бессмертного духа перед инертной смертной материей. То, чего быть не должно и вообще не может. Но оно случилось! С нами, не с кем-нибудь. Мы стали свидетелями и даже деятельными участниками этого поражения. Так крушение идеалов превращается в трагедию богооставленности. И принимая реальность такой, каковой она нам кажется (потому что разобраться, какова она есть, ни одному человеку инструментария, в смысле восприятия не дали), соглашаясь играть на таких условиях, мы как бы одновременно подписываемся под актом капитуляции.
10. И остаемся в руинах рухнувшего смысла. Нам, строго говоря, пиздец.
11. В этом состоянии пиздеца человек способен питаться и размножаться, и даже по мере сил бороться за повышение качества этих приятных процессов, не вопрос. Поэтому ему довольно легко объяснять себе, что все в порядке.
12. Но какое там, в жопу, «в порядке», когда бессмертный дух капитулировал при нашем участии. Хотя мы, конечно, этого не осознаем. И довольно редко рассуждаем в таких категориях.
13. Но на бессознательном уровне всем ясно, что пиздец.
14. Самое разумное, что можно сделать, оказавшись в руинах – это начать отстраивать разрушенное заново. С учетом наработанного опыта, конечно. Но это должно быть настоящее здание смысла, а не имитация его. Настоящий первосортный идеализм, настоящие идеальные идеалы – как мы их себе представляем.
15. Плюс тут такой, что строить можно действительно по своему вкусу. То, что подходит нам. А чтобы определиться с чертежами, придется достать и заново расшифровать те письма, которые мы когда-то получали, ни хрена не поняли и все перепутали, но держали их в руках, и теперь держим снова, а это главное.
16. Трудность в том, что? отстроив заново свой идеализм, придется жить так, словно он – единственная правда. Потому что он и есть правда, когда подтвержден – делом, не разговорами. Поступками, образом жизни, а не болтовней. Иными словами, когда мы решили, что в нашем идеальном мире ветряные мельницы – это злые великаны, нам придется кидаться на них с копьем всякий раз, когда они покажутся на горизонте. Потому что честное действие – единственный раствор, на котором может держаться созданный нами мир.
17. Шансов выжить при таком раскладе у нас, будем честны, не очень много. Но они есть. Иначе некому было бы это все писать. А я пишу.
18. Такое безумное и непрактичное поведение имеет смысл ровно по одной причине. Богооставленность лечится только решением жить так, словно Бог никогда тебя не оставлял. И вообще никого. Верить не обязательно, обязательно знать. Ну или просто действовать так, словно мы знаем. Потому что мы действительно знаем, даже если не осознаем. «Не осознаем» – это временное состояние, пройдет.
19. Пока мы живем так, как будто Бог есть и с нами, он есть и с нами. Пока мы живем так, словно дух победил, он победил. Пока мы делаем ставку на бессмертие, мы бессмертны. Даже если в начальных условиях задачи это было не так.
20. Реальность создается созидательной волей. То есть целым хором созидательных воль. Очень трудно противостоять целому хору. Но тут ничего не поделаешь, надо противостоять. Потому что осознанный и осмысленный идеализм – единственный путь к торжеству духа и бессмертия здесь, на этой прекрасной земле.
21. Отступать некуда, позади Мировая Бездна. Поэтому хрен мы отступим. И именно поэтому все будет хорошо.
22. Уже так есть.