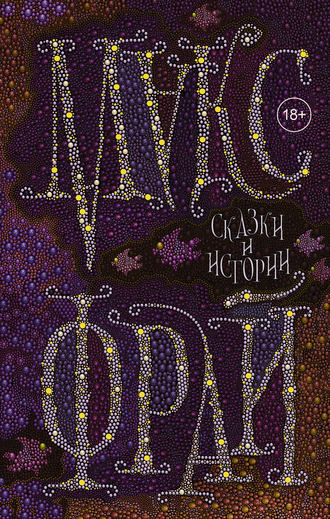
Макс Фрай
Сказки и истории
© Макс Фрай, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Мифоложки
Оба шута: и Пьеро, весь в посеревшей за день пудре, в синяках от Арлекиновой палки, и сам Арлекин, чей рот перекошен от каждодневных гримас, ладони цветут экземой, а кровь отравлена собственным сарказмом, – возносят по вечерам благодарственную молитву.
– Господи! – говорят они тайным дуэтом (каждый у себя, наедине с собою и сам за себя, но одновременно). – Спасибо тебе, Господи, – твердят они, – что не сотворил меня дурой Коломбиной, у которой нет иной печали, кроме как сделать наконец выбор между двумя никчемными шутами, Пьеро и Арлекином.
* * *
Орфей, совершив невозможное, спустившись живым в Аид, обнаруживает там Эвридику, вполне довольную загробной жизнью. Она тут популярна, многие мертвые дамы набиваются ей в подружки, а мертвые мужчины мечтают стать ее бойфрендами. Она не спешит, выбирает. У нее уже неплохая работа, и обещают, что скоро будет лучше. По ночам она с компанией объезжает лучшие ночные клубы Аида, по утрам пьет черный подземный кофе и трескает клубнику со сливками из ближайшего адского супермаркета. У нее, словом, все хорошо. И да. Она уже давно забыла, что это – загробный мир. Поначалу помнила, но вот, замоталась, закрутилась, клубнички покушала – и забыла. Так в мире мертвых почти всегда случается.
Ну и, ясен пень, когда Орфей объявляет: «Я сейчас уведу тебя в мир живых», – прекрасная Эвридика крутит пальцем у виска. «Псих ненормальный. Эскапист», – говорит.
И Орфей сидит как дурак на адской табуретке в подземной кухне своей мертвой возлюбленной, пьет кофе, песен не поет (соседи потому что за тонкой адской стеной), а потом встает и уходит – как дурак, опять же. А что делать?
Так разбиваются сердца.
* * *
Одиссей, движимый не то чувством долга, не то обычной сентиментальностью, наконец возвращается в Итаку. Ступив на берег, с тоскливым отвращением оглядывается по сторонам. Он и забыл, какая жухлая трава на этом побережье.
Дело не в том, что Итака такое уж паршивое место. Вовсе не паршивое. Просто того человека, который царствовал на этом островке и любил Пенелопу, давным-давно нет. А новый, возмужавший и умудренный странствиями-мытарствами, побывавший в подземном царстве, слышавший сирен и говоривший тет-а-тет с самой Афиной, понятия не имеет, как и зачем можно жить в Итаке, каждый день ходить на службу, работать тутошним царем без выходных и праздников, без особых надежд на государственный переворот даже.
Под покровом ночи он пробирается в свой дворец, прикинувшись тенью умершего, называет Пенелопе имя наиболее достойного из женихов. Замирает на пороге комнаты сына, чешет в затылке, понимает: «Мне нечего ему сказать», – и возвращается в лодку, где его уже ждут хатифнатты.
У них есть Барометр.
* * *
…Буратино проводит ночь на дереве, повешенный вниз головой, связанный по рукам и ногам мнимыми разбойниками.
Алиса, Базилио – кто они на самом деле?
Хороший, очень хороший вопрос.
Трудно не предположить, что лиса родом из Поднебесной; возможно, демонстрируя всем желающим свой рыжий хвост, она скрывает под лохмотьями нищенки еще девятьсот девяносто девять.
Кот, вероятно, законный наследник древних египетских мистерий. В сущности, происхождение кота мало что меняет.
Черный пудель Артамон, снявший Буратино с Древа, отлично дополняет картину, и без того вполне зловещую.
Дальнейшие события вполне закономерны. Изучение грамоты (уж не Каббалы ли?) начинается с магического перевертыша арозаупаланалапуазора, и продолжается в темном подвале с пауками. Ясно, что дело вовсе не в провинности ученика, просто некоторые формулы нельзя заучивать при солнечном свете. Это, надеюсь, понятно.
Ритуальное захоронение монет ночью на пустыре, объявленном Полем Чудес, да еще и в Стране Дураков, под руководством все тех же Алисы и Базилио – расставание с имуществом во имя обещанного чуда. В тайных братствах такое практикуется. Только после этого становится возможна встреча с Черепахой и обретение Ключа.
Как во всякой хорошей истории о Пути, ключ приходит прежде знания о том, как им воспользоваться. Знание это приходится добывать самому, с трудом и риском, ибо тайной владеют враждебные жрецы: экстатический кукольник и дотошный знахарь. С самого начала ясно, что Ключа им не видать, как своих ушей. Такова, увы, участь всех теоретиков.
Наконец знание о Ключе обретено. Как водится, оно обескураживает героя: оказывается, волшебная дверь в неизвестное была у него под носом с самого начала; путь за Ключом и знанием о Ключе уводил странника все дальше от Двери. Теперь пора возвращаться.
Финал известен всем, но полностью понятен лишь немногим посвященным в Мистерии Буратино. Дверь благополучно открыта; что за ней – иное измерение, иная жизнь, лишь на первый взгляд похожая на осуществление былых желаний?
Мы можем лишь предполагать, но и этого достаточно.
Историй, кажется, даже не четыре, а всего одна. История о долгом поиске Двери, которая с самого начала была совсем рядом, на расстоянии вытянутого носа. С точки зрения пристрастного (очень пристрастного) читателя, конечно.
Конечно.
* * *
Икар, вопреки слухам, не разбился, а был спасен небольшим отрядом крылатых дев, судя по говору, чужестранок. Их тронуло его щенячье мужество, насмешили искусственные крылья.
Одна из дев взяла Икара к себе жить; вскоре он привязался к спасительнице так, что прощал ей даже свое исковерканное имя: она почему-то не могла выговорить «Икар» и называла его Карлом – так ей было привычнее. Зато летать в объятиях возлюбленной оказалось куда комфортнее, чем при помощи громоздких крыльев отцовского производства. Рядом с нею Карл (Икар) был совершенно уверен, что однажды долетит до солнца: не сегодня, так завтра. Или через год. Какая разница?
С Дедалом Икар (Карл) больше не встречался и даже не писал: знал, что отец начнет скандалить, до конца жизни будет упрекать за нарушение инструкции, а семейных сцен он терпеть не мог.
Зато с валькирией Скегуль они жили душа в душу; их союз не омрачило даже рождение сына, который вопреки тайным надеждам матери пошел в отцовскую породу: родился бескрылым. Все же она любила и баловала сынишку, хоть и стыдилась немного его «инвалидности».
Когда мальчик подрос, выяснилось, что он удался не столько даже в отца, сколько в деда: с утра до ночи возился с какими-то хитроумными механизмами. Изобретал летательный аппарат. Сперва это было невинной игрой, но с годами, когда сын крылатой девы и Карла-Икара окончатльно повзрослел, стало настоящей страстью.
Взглянув на результат его многолетних трудов, мать пришла в ужас: накладные крылья мужа в свое время ее умилили, но это новое искусственное приспособление для полетов показалось ей кощунством, уродством и убожеством.
Устав спорить с матерью, сын ушел из дома, поселился в крошечной мансарде, арендованной за смешные деньги, благо хозяин дома уже отчаялся найти жильца для этого «скворечника». Жил не тужил, был сам себе хозяин, спал до полудня, варил какао на маленькой плитке, много гулял, по вечерам всласть возился со своими железками. Чем не житье для мужчины в самом расцвете сил?
– С крыльями любой дурак летать может. А вот ты попробуй как я полетай, – добродушно ворчал сын Карла и валькирии, прилаживая моторчик к своему пропеллеру.
Он решил, что надо бы все-таки навестить родителей и заранее репетировал будущий спор с матерью.
* * *
Она с отвращением глядит на собственное отражение. Моргает спросонок, щурится близоруко, но и без того все очень хорошо видно. Слишком хорошо.
«Ужас, – думает. – Нет, ну действительно ужас! Мешки под глазами, хуже, чем у мамы. Побродок – да, я давно подозревала, что он двойной, но он же тройной на самом деле! Жирная стала свинья, тошно-то как! А цвет лица… Нет, это не цвет лица уже, это цвет мочи Химеры – в лучшем случае. Ничего удивительного: когда я в последний раз спала по-человечески? То-то же… А волосы, волосы как свалялись! Это уже не просто космы, это же змеи натуральные. Того гляди зашипят…»
«Все бы ничего, – думает она, – но юноша этот красивый, совершенно в моем вкусе, он же тоже меня видит. Такой, какая есть, а есть – хуже не бывает. Он зачем-то ведь шел сюда, на край света – специально ко мне, так, что ли? Наслушался историй о моей былой красоте, собрался, да и пошел, так бывает с юношами. Ну вот, пришел, поглядел. Бедный. А я-то, я-то какая бедная!»
Лицо юноши, вполне бесстрастное и сосредоточенное, если приглядеться повнимательнее, все же выражает не то страх, не то отвращение. «Скорее второе, – говорит себе она. – С чего бы ему меня бояться? Просто противно, да. Мне бы тоже было противно на его месте… да мне и на своем месте противно. А стыдно, стыдно-то как! В таком виде предстать перед незнакомцем… А он же еще, небось, видел, как я сплю. На земле, враскоряку, раскинув дряблые ноги… Умереть от стыда можно! И, честно говоря, нужно. Что мне еще теперь остается?»
И она умирает от стыда. Сказано – сделано.
Персей так толком и не понял, почему зеркальный щит произвел на Медузу столь сокрушительное воздействие. Но на войне важен результат, а понимание – дело десятое. Так он тогда, по молодости, думал.
«Красивая какая, – с сожалением вздыхал Персей, отделяя все еще полезную голову Медузы от ненужного больше туловища. – Жалко ее».
* * *
Мучительно хотелось меду. Так нужен был ему мед – хоть плачь.
Но он не плакал, конечно же. Он летел, все выше и выше, стремительно приближался к древесной кроне, почти бесконечно далекой от земли. Бормотал под нос: «Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь…»
Он, конечно, не был тучей, да и медведем, строго говоря, не был. Но полет должен сопровождаться песней, хоть какой-нибудь – так ему тогда казалось. Вот и напевал свою кричалку-сопелку за неимением лучшего. Получалось не слишком складно – ну да, с чего бы ему вдруг заговорить складно? Меда-то как не было, так и нет.
Он поднимался все выше и выше. В какой-то момент ему показалось, что предприятие на сей раз вполне может увенчаться успехом, но нет. Опять ничего не вышло. Его заметили, узнали, ему дали отпор, как всегда.
Как всегда.
Падение было не столько болезненным, сколько унизительным. Благоуханный мед по-прежнему оставался недоступным.
В тот день Один окончательно убедился, что украсть, или взять силой Мед Поэзии не получится. Раздал воздушные шарики валькириям и пошел договариваться о честном обмене.
* * *
Прежде, чем прыгнуть со скалы, Сфинкс шепчет на ухо Эдипу еще несколько слов. Эдип слышит его последнюю загадку вполне отчетливо, но ничего не понимает. Он ошарашенно качает головой, пожимает плечами и идет в Фивы – царствовать.
Время не стоит на месте. Эдип царствует, фиванцы млеют под жесткой его дланью, супруга Иокаста окружает Эдипа воистину материнской заботой и исправно рожает ему детей. Все у них в порядке. Но царственное чело хмурится все чаще, хотя никаких причин для огорчений у Эдипа нет.
Пока – нет.
На самом деле он, конечно же, не может забыть последние слова Сфинкса. Поначалу вопрос чудовища показался ему нелепой шуткой, издевкой, жалкой, неудачной местью обреченного; теперь же фиванский царь нередко засиживается заполночь в тронном зале: только тут ему удается спокойно подумать.
Идут годы. Дети растут, Иокаста держится молодцом, мощь Фив крепнет, а Эдип посвящает последней загадке Сфинкса все больше времени. По правде сказать, он уже почти не способен думать о других вещах. Однажды ему говорят, что в Фивах началась эпидемия; как царь он обязан принимать меры. Это чрезвычайно раздражает Эдипа, поскольку отвлекает от размышлений над загадкой.
Во дворце появляется местная знаменитость, любимец богов, слепой пророк Тиресий. Его тон кажется Эдипу высокопарным, а жесты – излишне театральными, но, вероятно, таковы все пророки, а значит, надо терпеть. Царь ожидает от гостя помощи, но речи Тиресия нагнетают истерику, царский тесть Менекей зачем-то кидается вниз со скалы, Иокаста плачет и сдуру именует своего супруга «сыночком», придворные верещат как зайцы, дети и горожане орут на разные голоса. Называют его, своего господина и повелителя, «отцеубийцей». Бегают, размахивают руками, мельтешат. Эдип толком не понимает, что случилось, но все это очень мешает сосредоточиться на главном.
Да, именно. На главном.
С удивительной ясностью Эдип вдруг осознает, что цель его жизни – вовсе не благополучие Фив и, уж тем более, не счастливая семейная жизнь. Он родился для того, чтобы найти ответ на последний вопрос Сфинкса. Бывают и такие судьбы.
Чтобы роскошь и суета дворца не отвлекали его от размышлений, царь выкалывает себе глаза золотой пряжкой Иокасты, благо ее украшения разбросаны по всему дому. Поначалу тьма приносит облегчение; Эдипу кажется – еще немного, и он все поймет… Но тут его окружают придворные, и одни докладывают, что у супруги его Иокасты хватило ума покончить с собой, а другие просят отдать распоряжения касательно погребения покойной царицы. Появляется Тересий и требует гонорар. Дети хором оплакивают мать и наперебой требуют новые колесницы и модные в этом сезоне туники до середины бедра. Они теперь сироты, их надо баловать.
Заткнув уши, изрыгая проклятия, Эдип покидает дворец, а затем и Фивы. Жизнь слепого изгнанника нелегка, но бывший царь не жалуется. Теперь у него есть тишина, темнота и одиночество. Антигона, любимая дочка, следует за отцом, присматривает за ним, кормит и совершенно не мешает его размышлениям. Она умница. Наконец-то Эдип может спокойно обдумать последние слова Сфинкса.
Впрочем, нельзя сказать, что он делает успехи. Ответа на бессмысленный вопрос чудовища как не было, так и нет.
Однажды за Антигоной увязывается какой-то юный болван, и она, отчаявшись отделаться от непрошенного ухажера, отвешивает ему звонкую пощечину. Встрепенувшись, Эдип заинтересованно спрашивает: «Что это было?»
«Пощечина, папа. Просто пощечина», – потупившись отвечает Антигона. Ей стыдно за собственную горячность, но Эдип восторженно восклицает: «Молодец, дочка!» – и принимается хохотать.
«Что ж, – отсмеявшись, говорит он, – вот он, значит, какой, хлопок одной ладонью!»
Впрочем, просветления он так и не получил.
* * *
Заря едва занялась, но Снусмумрик уже шагал по лесной тропинке, наигрывая на губной гармошке бодрую дорожную песенку. Гостеприимный Мумми-дол остался уже далеко позади, но Снусмумрик не унывал.
Он вообще никогда не унывал, отправляясь в путь: ведь ему предстояло увидеть великое множество интересных вещей и, возможно, пережить самое что ни на есть Настоящее Приключение, о каком его юный приятель Мумми-тролль мог только мечтать. К тому же в кармане Снусмумрика лежал сверток, оладьи с малиновым вареньем, приготовленные ему в дорогу заботливой Мумми-мамой, память хранила великое множество новых песенок, кусты вдоль тропинки пестрели ягодами, а до зимы было так далеко, что и думать о ней не имело смысла. Что за удачное стечение обстоятельств!
Сейчас Снусмумрик сам с трудом верил, что когда-то давно (он был в ту пору много моложе и гораздо серьезнее, чем теперь) подобная судьба казалась ему проклятием. Впрочем, великое множество людей до сих пор верит, будто он стал странником в наказание за какие-то дурацкие грехи. На самом-то деле трудно изобрести более желаную награду!
Подумав об этом, вечный скиталец, известный обитателям Мумми-дола под именем Снусмумрик, рассмеялся, лихо сдвинул на затылок зеленую шляпу и сказал себе вслух, чего с ним давненько не бывало: «Жизнь твоя воистину прекрасна, Агасфер! И хорошо, что она никогда не закончится!»
* * *
Погода была безветренная. Поэтому рано утром он отправился к озеру. Как всегда неподвижно стоял на берегу, затаив дыхание, вглядывался в зеркальную поверхность. Ждал неведомо чего, ни на что особо не надеясь. Просто знал откуда-то (догадывался? Сердцем чуял?) что всякое зеркало – вход в неведомое, а отражения (в том числе и его собственное отражение) – тамошние жители, свидетели небывалых дел, возможно даже – проводники.
Словом, он отлично понимал, зачем каждый день ходит на берег озера, хоть и не представлял, конечно, как именно все случится. Только смутно надеялся, что случится – ну, хоть что-нибудь. Хоть как-то. И дал себе честное слово, что не упустит свой шанс.
Ну и не упустил. Когда зеркальная озерная гладь вдруг превратилась в прозрачную (рожденный задолго до изобретения стекла, он никогда не видел ничего подобного) дверь, створки которой бесшумно раздвинулись, приглашая его войти, он не мешкал ни минуты.
– Представляешь, эти болваны думали, будто я без ума от собственной внешности, и с утра до ночи бегаю к озеру любоваться: какой я красавчик. Это же надо было додуматься! – жаловался Нарцисс улыбке Чеширского Кота, в чьи обязанности входило развлекать гостя, когда хозяин исчезает по делам.
* * *
Как известно, Ласточка унесла Дюймовочку далеко на юг, в Страну Вечного Лета. Солнечного света и цветочного нектара тут хватало на всех, зато противных жаб, жуков и кротов не было вовсе. Не их территория.
Ласточка усадила маленькую девочку на краешек самого свежего цветочного лепестка, попрощалась и улетела по своим птичьим делам. Дюймовочка была совершенно счастлива. Она всласть напилась нектара, устроилась поудобнее, немного поболтала ногами и наконец замерла в ожидании светлого будущего, обещанного ей знакомым добрым сказочником.
Несколько часов спустя, когда малышка уже начала скучать, на соседнем цветке появился человечек, такой же крошечный, как сама Дюймовочка. За спиной у него дрожали серебристые стрекозиные крылышки. Дюймовочка смотрела на него с нескрываемым любопытством. Она очень надеялась, что незнакомец предложит ей поиграть в какую-нибудь интересную игру. Наверняка он знает много интересных игр!
Эльф действительно знал многое. Ничего удивительного: ему было больше сорока тысяч лет, а это и по эльфийским меркам – весьма зрелый возраст.
Незнакомая маленькая девочка, поселившаяся в соседнем цветке, сразу привлекла его внимание. Полдня он разглядывал ее из своего укрытия, а теперь решил рискнуть и попробовать с нею познакомиться. Вряд ли малышка откажется от возможности полетать над лужайкой. Маленькие девочки очень любят летать над лужайками, уж он-то знает…
– Здравствуйте, – сказал Дюймовочке эльф. – Меня зовут Гумберт. Гумберт Гумберт, с вашего позволения.
* * *
Люди тихо подвывали от ужаса. Еще час назад они громко визжали, но с тех пор успели – не то чтобы успокоиться, но утомиться.
Прометей в триста восемнадцатый примерно раз повторял объяснения: это огонь, он не страшный, а полезный, он дарит свет и тепло, и еще на нем можно жарить мясо, только нужно аккуратно с ним обращаться. Несколько простых, очень простых правил техники безопасности, и все будет окей.
Это таинственное «окей» пугало людей почти так же сильно, как огонь. Но они очень старались держать себя в руках.
Прометей говорил, объяснял, показывал, демонстративно изжарил восемь бараньих ног и даже наскоро соорудил чесночный соус, а люди пялились на языки пламени и тихонько подвывали от ужаса. Они ничего не понимали. Ничегошеньки.
Наконец Прометей исчерпал все свои объяснения, аргументы и добрые чувства заодно. Сказал напоследок: «Ну, глядите, поаккуратнее с ним», – и зашагал прочь.
Как только титан скрылся в ближайшей оливковой роще, вождь племени приободрился, прекратил выть, и дал команду остальным мужчинам: вперед!
Они бесстрашно приблизились к огню. Ужас сменился веселым азартом и законной гордостью воинов. Сейчас безопасность племени зависела только от них, мужчин. Это было, черт побери, приятно.
– Я же тебе говорил, идиот: они всегда его гасят, – Зевс ухмыльнулся и подмигнул Прометею, который с печалью и отвращением наблюдал, как облагодетельствованные им дикари мочатся на божественный огонь.
Зевс понял, что перегнул палку, и сменил тон.
– Я уж сколько молний в них метал, все без толку, – сочувственно сказал он. – Но я не унываю: рано или поздно найдется какой-нибудь умник, поймет, что огнем можно не только шерсть на заду подпалить, но и руки погреть, и все устаканится. В нашем деле быстро не бывает. Эх ты, прогрессор хренов.
* * *
Иногда Сизифу бывает позволено передохнуть. То есть не сразу бежать вниз по склону горы за укатившимся камнем, а присесть на вершине, достать бутылочку пивка, баночку с молодой картошкой, вынуть из-за пазухи нагретый солнцем, соленый от пота помидор. Выпить, перекусить, закурить неспешно после сладкой, сытой отрыжки. А камень – что ж, камень пусть полежит внизу. Никуда не денется.
Впрочем, Сизиф нет-нет, да и взглянет вниз: как там камень? Понимает, что нет дураков присваивать такое сомнительное сокровище, но все равно немного нервничает. А вдруг?
В часы отдыха Сизифа иногда навещают дети и внуки. Приносят гостинцы, глядят сочувственно, жалеют старика. Впрочем, сам Сизиф совершенно уверен, что они уважают его упорство и, возможно, даже завидуют. Только виду не подают.
– Смотрите на меня, дети, – снисходительно говорит он. – Смотрите и учитесь. У всякого человека должно быть свое дело. Без дела жизнь становится пустой и никчемной. Вы уже взрослые, а ни у кого из вас еще нет ни камня, ни горы. Мне стыдно за вас, шалопаи!
«Шалопаи» соглашаются с Сизифом, наперебой хвалят его упорство, говорят, что такого огромного камня и такой высокой горы ни у кого в мире больше нет. Наспех сочиняют утешительные новости, рассказывают о завистливых пересудах соседей, восхищенном шепоте юных дев, высокопарных клятвах пылких мальчишек, которые якобы мечтают поскорее вырасти и повторить судьбу Сизифа.
Они хорошие дети и не станут огорчать старика.
* * *
«Животное!» – кричит она, захлебывается слезами и злостью; усталость и отвращение заставляют ее умолкнуть. Она уже почти спокойна, но бранные слова переполняют рот и чтобы освободиться от этого тошнотворного кляпа, она снова орет: «Животное! Мерзкое, грязное, тупое животное!»
Виноват ли он, нарочно ли прятался в зарослях возле ее излюбленной купальни, или случайно забрел в эти заповедные места, она разбираться не стала. Какая разница? Что было – было, что сделано, то сделано. Людям почему-то кажется, будто богов интересуют их намерения – что за чушь! Значение имеют лишь поступки, дела, события. Не все, конечно. Некоторые.
Развязка этой истории общеизвестна: Актеон был превращен в оленя (не зря же она кричала: «Животное, животное!») Собственные псы растерзали его; история была прилежно записана на пергаменте и отправлена в крупнейшие библиотеки Ойкумены в назидание смертным: а вот не бродите по священным рощам с открытыми глазами, не связывайтесь с богиней-девственницей, не рискуйте, зачем вам неприятности?
Только приближенные подружки-нимфы догадывались, что дело вовсе не в жестокости Артемиды, не в божественном ее высокомерии. Просто нельзя было оставлять в живых смертного, видевшего воочию толстые кривые щиколотки дочери Зевса.
* * *
Поначалу, когда прекрасная Юдифь принесла Голову Олоферна в Бетулию, Голова произвела настоящий фурор. На нее ходили смотреть защитники города с женами и детьми, мудрые старейшины и малолетние рабы пялились на Голову с одинаковым выражением восторженного отвращения, а одна слепая старуха тщательно ощупала Голову, чтобы узнать, как выглядел при жизни грозный полководец. В точности так же она водила чуткими пальцами по лицам своих возлюбленных, страстно желая навсегда запечатлеть в памяти их черты; впрочем, последний возлюбленный оставил ее давным-давно, так давно, что Голова Олоферна в ту пору была еще младенческой головкой, покрытой золотистым пушком.
Потом, когда сражение было выиграно, о Голове забыли. Она как следует провялилась на солнце, стала маленькой, твердой и очень прочной. Время было не властно над Головой, она пылилась в подвале дома Юдифи и тосковала от одиночества и невостребованности, как рок-звезда на пенсии.
Шли годы. Юдифь умерла; пришел срок, и внуков, и правнуков ее навестила Разрушительница Наслаждений. Дом переходил из рук в руки, новые владельцы пристраивали к нему то верхние этажи, то флигели; в начале очередного ремонта вход в подвал был замурован и забыт окончательно. О Голове Олоферна, которая к этому времени изрядно рехнулась от тоски, и подавно не вспоминали.
Чарующие и тревожные видения посещали Голову. Мерещилась ей зелень заповедных лесов, сочные травы лугов, аромат цветущих роз и палой листвы щекотал ноздри, а иногда в ее грезы вторгался ужасающий образ великолепного огненного зверя. Зверь сулил Голове погибель – окончательную, сладостную и желанную. Голова Олоферна вполне могла бы сказать себе, что зверь послан завершить дело, начатое Юдифью, но Голова уже давно забыла Юдифь.
И не только ее.
Голова вовсе не помнила прошлого, зато все еще умела мечтать о будущем. Голове казалось: если найти способ выбраться из замурованного подвала, если увидеть небо, если хватит сил не остановиться на полпути, а катиться и катиться, не зная отдыха, можно будет в конце концов укатиться за линию горизонта (Голова уже давно позабыла собственное имя, но все еще помнила, что такое «Горизонт»), а там…
Неизвестно, конечно, что ждет ее там.
Наверное, счастье – в образе огненного зверя. И еще аромат роз, конечно же.
Надежда выбраться из подвала была невелика, но Голова готовилась к побегу, как могла. Прогрызла ветхую ткань, в которую была завернута, освободилась, подкатилась поближе к двери. Затаилась.
В конце концов, когда очередные домовладельцы, пожилые супруги вскрыли замурованный подвал и сунулись туда в поисках древнего клада, Голова исполнила свой план. Сбежала. Осторожно перекатилась через порог, огляделась. Солнечные лучи переполнили пустые глазницы Головы, испепелили жалкие остатки ее разума. Голова расхохоталась и покатилась, не разбирая дороги – вперед, к линии горизонта.
Когда небольшой серый зверек попытался остановить странный круглый предмет, который показался ему скорее забавным, чем устрашающим, Голова, так и не уразумев, что происходит, лязгнула гнилыми остовами древних зубов и прохрипела: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…»
Она совершенно не понимала смысла этих слов, но повторяла их как мантру.
* * *
Прогнав дурочку Герду, чтобы не мешала работать, забыв про сон и еду, утирая ненужными меховыми рукавицами вспотевший от напряжения лоб, прикусив от досады губу, он переставлял и переставлял с места на место скользкие, непослушные, почти бесформенные льдинки.
Когда труд его был завершен, Кай не почувствовал радости – только тупую боль в висках и опустошенность, не слишком похожую на облегчение. Согласно договору, отныне весь мир действительно принадлежал ему, но он больше не знал, что делать с этой игрушкой, а о новых коньках и вовсе не вспоминал. Не до них теперь.
Снежная Королева была довольна.
– Что ж, составлять слова из букв ты уже умеешь, – сказала она. – Дело за малым.
Небрежно погладила его по голове, неожиданно сжала пальцы на затылке – так, что он уже не мог ни высвободиться, ни отвернуться. Приказала:
– Открой рот.
– Что вы собираетесь делать? – испуганно спросил Кай.
– Ничего из ряда вон выходящего, небольшая формальность, напоследок. Вырву грешный твой язык и празднословный, и лукавый…
* * *
Устами многочисленных повествователей, подробно, на разные голоса, чтобы для всякого слушателя нашлась версия по росту и разумению, история рассказывает нам о докторе Фаусте, но упорно умалчивает о его ровеснике, соседе и ближайшем друге по имени Питер.
На фоне трагедии Фауста это персонаж скорее малозначительный, чем загадочный, однако справедливости ради надо бы рассказать и о нем.
Полвека назад старик приехал из Англии ради изучения математики и философии. Он – так часто случается с людьми увлеченными и рассеянными – сам не заметил, как осел на чужбине, остепенился, женился, завел дом, разбил сад и, в конце концов, стал профессором того самого университета, куда явился в надежде получить ответы на все вопросы бытия, а выучился лишь ни о чем не спрашивать, да еще скрывать от незрелых студенческих умов, что ответов на дурацкие их вопросы не существует. Коллеги, супруга и дети звали его на немецкий манер «Петером», а он так прижился в Германии, что уже не чувствовал разницы.
Шли годы, доктор Петер овдовел, выдал за своих лучших учеников двух красавиц дочерей, вышел в отставку и теперь искренне удивлялся: куда ушло время его жизни, на какие-такие великие дела были растранжирены блестящие талеры дней?
Об этом (и о многом другом, конечно) он беседовал со своим коллегой Фаустом за стаканом рейнвейна долгими вечерами, которые всегда казались им обоим осенними – даже в мае, или на Рождество.
Известно, что от друзей таиться нелегко, а уж от соседей – и подавно; Фауст щадил чувства коллеги и не хотел посвящать его в самую жуткую из своих тайн, но доктор Петер был весьма наблюдателен и обладал проницательным умом. К нему вернулось былое умение блестяще формулировать вопросы, а Фауст быстро устал отпираться, так что смутные догадки Петера вскоре стали уверенностью, а потом – знанием.
Мефистофель не возражал. Уж он-то понимал, что посвященные в его секреты чаще становятся клиентами, чем экзорцистами. В облике черного пуделя обнюхал Петера и помочился во всех углах его сада: пометил, так сказать, территорию. На всякий случай.
Наблюдая за помолодевшим приятелем, втайне завидуя его юношеской резвости, от души сочувствуя его падению, Петер почти сразу понял, в чем была главная ошибка Фауста. Сосед, можно сказать, добровольно положил голову на плаху. Молодость – не только пора надежд и наслаждений, но и период величайшей уязвимости. Никогда не бывает человек столь глуп и беззащитен, как в юности. Опьяненный желаниями и мечтами, он принимает собственную безалаберность за могущество, телесную бодрость полагает гарантией бессмертия, а легкомыслие кутилы кажется ему мудростью философа – ничего удивительного, ошибиться тут действительно легко.
Трагедия Фауста не произвела на Петера особого впечатления. То есть, он жалел друга, но сам не оробел, не дрогнул, а лишь утвердился в верности своего решения. Выбрал день и час, наиболее подходящие для роковой сделки, заранее написал завещание, разумно распределив свое имущество между родней, сжег бесполезные теперь рукописи. Последние дни посвятил играм с внуками. Присматривался к ним, наблюдал, анализировал и все яснее понимал, что сделал единственно правильный выбор.
В назначенный день и час доктор Петер начертил пентаграмму и произнес должное заклинание. Ни рука, ни голос не подвели старика. Бес говорил с ним, как со старым приятелем, радуясь легкой добыче. Но когда Петер сформулировал свое желание, Мефистофель взвыл от досады. Опыт прежних удачных сделок свидетельствовал: чтобы погубить человека, обычно достаточно выполнить его самое заветное желание. Но заветное желание доктора Петера вовсе не сулило погибели; хуже того: бес прекрасно понимал, что исполнение его сделает новоявленного чародея неуязвимым.







