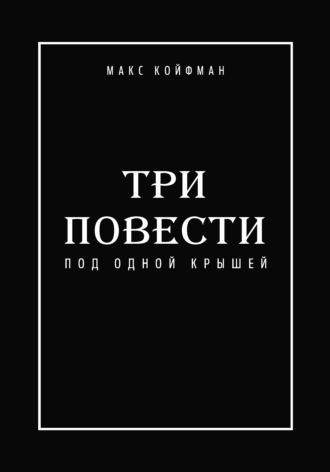
Макс Койфман
Три повести под одной крышей
Кстати, в книге моего друга Макса Койфмана приведены слова христианского пастыря прошлого, в которых было сказано: „Когда вам кажется, что простить нельзя, вспомните, сколько прощено вам“. Наконец, для ободрения (не „ободрания“) – привожу слова Мессии: „Се, стою у двери и стучу. Кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною“. Даже Сын Божий не может „вломиться“ в душу нашу без согласия нашего. Бог дал нам свободную волю. И от нас зависит, как мы распорядимся ею. Фрида, Бог вложил в моё сердце любовь. Не только к жене, детям, внукам и правнукам моим.
Не только ко всем „нормальным“ родственникам, друзьям, соседям, коллегам… Но и ко всем „нищим, увечным, хромым и слепым“. И вот поэтому Фрида отныне „обречена“ быть в молитвах Миши Григоряна, прощённого по великой милости Божией. И очень хочу, чтобы мы все – Фриды, Максы, Миши, Фроси… были вместе в Царстве небесном. Аминь!»
Когда я прочитал это письмо, я надолго задумался. Хотя меня больше волновало, что ответит Фрида пастору Мише Григоряну. Заглядываю в почтовый ящик день, другой, третий… А писем нет. Неужели обиделась? Хотя в письме Миши ничего такого обидного не было: пастор поделился своим мнением. Успокоился, когда увидел письмо Фриды к Мише.
«Уважаемый Миша! Признаюсь, что мне тяжело ответить на Ваше письмо! Мне больно будет даже невзначай обидеть Вас. Поэтому заранее прощу прощения! Я сама чувствую, что последние десять лет моей жизни очень изменили меня и все мои понятия о доброте, сочувствии, надежде, вере, любви, равенстве. Человек должен чувствовать милость Бога хотя бы тогда, когда ему так больно, что он даже хочет покинуть этот мир! Понятно: прегрешения бывают разными! А что, если весь его грех в том, что он родился евреем? Вот тут все Ваши слова уйдут в песок! Надо родиться евреем, чтобы понять, как это маленькое слово испоганило детство там, где по-прежнему процветает бессмысленная неприязнь, ненависть и нелюбовь к евреям. А любимый человек дал мне пощёчину, когда узнал, что я еврейка! Во всей сути Вашего письма есть уйма противоречий и нестыковок! Вы пишете, что Бог христианства – это Бог любви! А кто же Бог иудеев? Ведь Бог один! Или я не так понимаю? Вы любите всех – так Вы пишете!
А правильно ли это? Если один Бог, то что же Он делает? Где же Его любовь?.. Ямного хотела бы Вам написать. Очень жаль, что мы никогда не встретимся. Не надо за меня молиться. Никто не вернёт мне моих дорогих людей. И перед Богом я не грешна! Ещё один последний очень трудный вопрос: откуда Вы знаете, что Вы прощены Богом?!»
Миша не заставил себя долго ждать. Он будто предвидел, что ответное письмо от Фриды будет с вопросами. Не зря же умница Эрма, жена Миши, нарекла его «Лакмусовой канарейкой». Ещё ничего такого худого не произошло, а её Миша чувствовал, что это обязательно случится. Но в то же время он чувствовал, что доброта всё же одолеет зло.
«Фрида, хотел было начать письмо: „Уважаемая“ или „дорогая“ Фрида. Но, помолившись Творцу (моему и Вашему!), решил начать проще: Фрида, моя биологическая сестра… Помните, в книге приводится старинная английская поговорка: „Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда аристократом“ Так вот, я всегда вспоминаю её, когда кто-либо начинает кичиться своим этническим происхождением. Мы ведь все – биологические братья и сёстры. Белые, жёлтые, чёрные… Не „розовые“, простите, и не „голубые“ (Господи, помилуй их!). Вы пишете, что родились еврейкой. Хм… А кем же родился я, Миша Григорян? Цитирую из книги: „Родился в Узбекистане, жил в Казахстане, родной язык – русский. Отец был украинец, мать – армянка…“ Так кто же я? Да, „чистая“ дворняжка… И очень горжусь своим „нечистым“ происхождением. В раю Господнем, в Царствии Его, уверен, не будет ни евреев, ни армян, ни русских, ни украинцев с китайцами. Там будут только дети Божьи. А вот в аду – точно окажутся вышеупомянутые представители разных национальностей. Фрида, вы пишете: „…Веря в Бога, человек не должен быть разочарован ни в любви, ни в вере к людям“. А вот мой любимчик Иеремия, великий еврейский пророк, „политически некорректно“ заявил: „Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает опорою своею…“ Поэтому не обязательно „рождаться евреем в антисемитской стране“, чтобы испытать то, что испытали евреи. Полтора миллиона моих армянских предков погибло в геноциде 1915 года. И сегодня отрезаются головы взрослым и детям в Сирии и Ираке лишь потому, что они христиане. Кстати, об антисемитизме. Истинный христианин не может быть антисемитом. Мы, христиане разных конфессий, обязаны молиться о еврейском народе. И это никоим образом не означает, что мы одобряем всё, что совершали (и порой совершают сегодня!) евреи и все остальные люди. А антисемитские „христиане“ наверняка услышат в день Страшного Суда страшные слова из уст Йешуа ха-Машиаха: „Отойдите от Меня! Я никогда не знал вас“.
Фрида, вы пишете, что мы никогда не встретимся… А я молюсь, чтобы мы с Вами были вместе в Царствии небесном. Целую вечность!!! Там не будет антисемитизма; и антагонизма тоже не будет. Наконец, Ваш „…последний, очень трудный» вопрос: «Откуда Вы знаете, что прощены Богом?“ Прочтите Евангелие. Хотя бы раз. И узнаете, откуда и от Кого исходит моя вера в то, что я прощён.
С любовью, прощённый грешник Миша Печевистый-Григорян».
«Уважаемый Миша! Что я могу ответить Вам? Да и что может ответить Вам такой человек, как я, которая Евангелие ни разу не видела! Хотя моё любимое занятие – чтение. Я прочла немало разных и всяких книг. Много в них было и о Боге! О Боге я задумалась после того, когда умер мой любимый учитель и прекрасный хирург – Марк Генрихович Ашкинази! Ему я верила! Но когда я узнала, что он завещал похоронить его по всем еврейским обычаям, – я просто была шокирована! Он верил в Бога! Я же Бога вспоминала только в двух случаях: когда после страшных переживаний наступал наконец-то покой, я говорила: „СПАСИБО БОГУ! Он всё-таки есть!“ Когда же приходилось страдать, плакать, молить о помощи, а Он не помогал, я вопрошала: „НУ, ГДЕ ЖЕ ЭТОТ БОГ?“ Видите, я такая же, как миллионы других, которые только просят…»
«Фрида, для меня все люди, все ДУШИ – уникальны. Бесценны! Я с определённого времени не верю в случайности, а твёрдо верю, что людей, которые встречаются мне на пути, послал мне Всевышний… Вы пишете: „…моё любимое занятие – чтение…“ Моё – тоже. До сих пор покупаю книги. Разные. В секонд-хэндовских магазинах, конечно… Как говорил тот „новый русский“: „Бабки – но!“ И ещё: Вы как-то написали, что „…такие, как вы, Фрида, не интересны“. Наоборот! Очень интересны… Сам был такой. Слава Богу! Сам задавал миллион вопросов. Самых провокационных – тоже. И Ему тоже. Вы стараетесь делать людям добро. Каждый день. Я тоже старался. Ну, согласно „Моральному кодексу строителя коммунизма“. А что в результате? Где-то к годам этак двадцати пяти-тридцати – депрессия, беспросветный пессимизм. Желание покончить с собой, курение, алкоголь, мат-перемат… И всё же я нашёл себя. Нет, извините. Он открыл мне, слепцу, глаза на Истину…»
«Уважаемый Миша! Спасибо вам за письмо! Но скажите, почему в мире ещё столько боли, страданий и зла?! Может, это от того, что все мы в чём-то грешны? А я вот думаю, что не грешна, потому что всего лишь люблю слушать людей, хорошую музыку. Люблю смотреть на ночное небо, особенно осенью, когда на нём светит Млечный Путь. Люблю горы, море, деревья… И ещё цветы, которые я сама выращиваю на своём дворе. Жалею, что больно время бежит…»
«Миша, над временем, как известно, мы не властны, и я с Вами согласна, что все мы в чём-то да грешны: кто-то больше, кто-то меньше! Когда я написала, что все мы в чём-то грешны, то имела в виду, если я и грешна, то только не перед Богом. А теперь скажите, какой грех самый страшный? Ложь? Воровство? Унижение человеческого достоинства? Шантаж? Предательство?.. И как быть, если даже плохая мысль – это грех! И какой грех карается сразу? А что, если грех совершают люди с высоким статусом? За них тоже надо молиться?.. Кому-кому, а мне это интересно знать».
«Фрида, спрашиваете, „…какой грех самый страшный…“? Тут бы я снова попросил вас хоть раз прочитать Новый Завет. Там, я уверен, Вы найдёте ответы на многие Ваши вопросы. Нет, не на все. По поводу грехов. Бывший фарисей, апостол Павел, ведомый Духом Святым, писал, что все грешники, и крупные, и мелкие, – все будут сидеть на одной скамье подсудимых в день Страшного суда. И те, кто, живя в этом мире, не покаялись, уверовав в Мессию, сойдут в преисподнюю. Более ста лет назад известный русский философ В. С. Соловьёв сказал: „Знание Библии одинаково необходимо всем мыслящим людям – верующим и неверующим; потому что если первые должны знать объект своей веры, то вторые должны непременно знать, что они отрицают“».
Читая эти письма, я видел двух разных людей, умеющих думать, мыслить, рассуждать и при этом оставаться при своём мнении. Не будь этого откровенного понимания и уважения друг к другу, вряд ли раскрылся бы так полно образ Фриды Койфман-Вайсман и христианского пастора – Миши Григоряна…
«Макс, думаю, что Ваша повесть о пасторе Мише Григоряне, писала Фрида, стоит того, чтобы о ней заговорили. Сколько таких Миш искали свой путь. И сколько таких Миш и сейчас не знают, в чём смысл их существования в этом непонятном, порою злом, но таком прекрасном мире. И вот он, этот путь – вера в Бога. Верить – это всегда хорошо. Вспоминаю свою бабушку. Как она верила! Денно и нощно молилась. И Он ей помог: Он подарил ей долгую жизнь. Только радости не было… В „Лакмусовой канарейке“ Вы затронули очень непростую тему, и спасибо Вам за это. Но в ней немало сомнений. Может, хватит их?! Сомнения будут всегда. И никакой Миша не сможет убедить человека в том, что Бог простит ему грехи. Грех всегда останется грехом, как бы мы ни молились. И это для меня самое главное в вере…».
Но Фриде я тогда написал, что МУЗЕЙ ХОЛОКОСТА Америки приобрёл мою книгу «На углях тлеет тишина», где я рассказал о шестилетней девочке, которая летом сорок второго вдруг заговорила стихами. И что стихи находили её в гетто, в лагерях, на улицах Немирова. Они забирались к ней в заброшенных подвалах, сараях, на чердаках, в зарослях лопухов и камышах, где она вместе со своей сестрой десяти лет пряталась от немцев, местных полицаев и других нелюдей.
«В дом стреляли, а потом это был уже не дом. Стал он весь – огонь и дым, небо пыхкало над ним.
И осталась на калитке обгорелая улитка. А когда совсем стемнело, что-то там ещё горело. Но людей кругом не стало, только тени пробегали».
«Совсем дурные немцы эти стали: стреляют в небо, как в людей стреляли. А если пуля долетит до солнца, и весь огонь из солнышка прольётся? И станет днём темно-темно, как ночью, и даже птичка цвиркать не захочет?»
Девочка, конечно же, не знала, что её стихи тихо и незримо «записываются» в уголочках памяти. Как и не знала, что с годами она станет прекрасным поэтом, автором восемнадцати поэтических книг, лауреатом премии «Олива Иерусалима» и премии имени Давида Самойлова… А ещё я похвастался перед Фридой, что за книгу «На углях тлеет тишина» мне выдали 27 долларов (!). И что на них я собираюсь купить остров ЗДОРОВЬЯ для бесплатного лечения всех желающих у лучших врачей мира.
«Макс, всю ночь читала Вашу книгу „На углях тлеет тишина“. И, конечно же, наплакалась. Всё время видела себя, и мою младшую сестрёнку, и моих подружек со двора, которым досталось то, что описано в книге. И уже который день не покидают меня слова, где Вы „просите“ зал (в котором Вы только что читали стихи этой шестилетней девочки) на минутку представить себе раннее утро. Заросли лопухов в стороне от дороги. Моросящий дождь. Яму среди этих лопухов и двух озябших девчушек, осторожно выползавших из неё. Боязно оглядываясь, они направляются в сторону города и неожиданно замирают. Перед ними, на одиноком дереве, висела босая женщина с распущенными волосами… Старшая девочка только бросилась бежать, но младшая схватила её за локоть, прижав к себе. Не отрываясь глазами от повешенной, судорожно глотая воздух, она прошептала: «Её раскачивало ветром, и в бок свисала голова. И я не знаю, как про это сказать слова. Я убежать, бежать хотела, а всё равно она – висела. И так скрипели скрипом ветки, и было холодно от ветра».
Макс, спасибо Вам, что Вы с такой теплотой и любовью передали историю Вашей героини – прекрасного поэта Аллы Айзеншарф. Так и хочется обнять её и пожелать ей попутного здоровья. А с Вашим «ОСТРОВОМ ЗДОРОВЬЯ» – здорово придумано. Как только оттуда блеснёт зелёный свет, отправлюсь туда первым же самолётом, не сомневайтесь».
«Фрида, прочитал по телефону твоё письмо Алле Айзеншарф. Письмо её тронуло. Она пожелала тебе ответного здоровья, удачи и хорошего настроения. Сейчас я продолжаю писать более расширенный вариант этой книги, только теперь уже под именем „И пыль клубами всходит над дорогой“. И где будет многое осмыслено, дополнено и заново написано. Но при этом я, как и ты, остался истинным иудеем, даже фамилии своей не сменил…»
«Дорогой Макс. С удовольствием прочту и эту книгу. А пока я, наконец-то, прочла Вашу „Лакмусовую канарейку“ – книгу о христианском пасторе Мише Григоряне. Миша Григорян – хороший человек и друг… Спасибо Вам и за мои письма, которые Вы внесли в эту книгу, хотя в ней много спорного. Что ж, на то у каждого человека своё мнение о Боге и религии. Мне будет интересно дать прочитать эту книгу моим родным и друзьям…»
«Фрида, я согласен, что пастор Миша Григорян – натура, безусловно, сложная, порою неудобная, упрямая, но открытая и прямолинейная. И тут я повторюсь, что к Богу его никто не тянул, не толкал. Он сам пришёл к Нему не в корыстных целях, а по зову души».
«Макс, я уже верю в Бога потому, что Он мне дал Вас – моего самого терпеливого и внимательного слушателя. Моего утешителя, наставника и очень доброго человека. Я прожила в Дагестане тридцать три года – видела немало хорошего и того, что меня беспокоило, настораживало, повергало в трепет. Вот только не знаю, где украсть время, чтобы об этом рассказать…»
«Фрида, время всегда можно найти, если захотеть. Ты столько, выстрадала, пережила прежде, чем стала на ноги. И почему бы об этом не поведать? Когда читаешь про чьи-то страдания и слёзы, невольно задумываешься, а как бы ты поступил?.. Не зря же говорят, что в жизни ко всему привыкаешь. Во всяком случае, не сидеть же сложа руки и не попытаться выбраться из сложившегося тупика жизни. Главное – не потеряться, не сломаться, оставаться добрым, чутким, уверенным в себе. Невольно всплывает Соломоново кольцо, на наружной стороне которого было выгравировано: „ВСЁ ПРОЙДЁТ“, а на внутренней – „И ЭТО ПРОЙДЁТ“».
«Макс, я согласна, что человек ко всему привыкает, только не у всех получается. Я встречала людей, которые сдавались, сживались с болью, уходили в себя. Встречала я и тех, кто пытался найти хоть какой-то выход. Но видела я и тех, кто не выдерживал эту боль и накладывал руки… Вот почему важно, чтобы рядом оказался человек, будет ли он верующим или неверующим, главное, чтобы он мог отвести несчастного от пропасти неверия в себя в свои возможности…»
«Фрида, для меня важно, чтобы человек поверил в себя, не сломался, не пал духом, думал о семье, о работе, о жизни, о здоровье, а не „растапливал“ свою радость дрязгами, болезнями, вредными привычками… А захочет ли кто-то обратиться за помощью к Всевышнему – это личное дело человека. На то он и homo sapiens, чтобы думать, решать и действовать…»
«Фрида, в одном из твоих писем я прочитал, когда ты готовилась к очередному экзамену на аттестат зрелости, ты обычно отправлялась в сквер, где тебя обычно привлекала завораживающая тишина. И где ты могла помечтать, подготовиться к экзаменам, почитать хорошую книгу. Но на этот раз, когда к тебе подошёл молодой человек, ты засуетилась и поднялась, чтобы покинуть сквер.
„Пожалуйста, не уходите. Я художник. Вы необыкновенно красивы. У вас бесконечно голубые глаза, в которых можно прочитать всю вашу жизнь. Я хотел бы написать ваш портрет“.
Другая бы девушка согласилась, чтобы художник написал её портрет. Но ты не то насторожилась, не то испугалась:
„Извините. Вы мне мешаете. Я готовлюсь к экзаменам.“
Скажи, что это было? Проявление твоего характера, скромности, боязни?..»
«Дорогой Макс, меня больше смущало, а вдруг художник пригласит меня к себе, „на урок“? И в чём бы я к нему пошла? У меня даже не было второго лифчика, не говоря уже о кофточке или приличном платье… Зато хорошо помню, как только я окончила десять классов, то сразу убралась в Дагестан. В Махачкалу, где тогда жила моя любимая тётя Сима, младшая сестра моей мамы. В ней было столько жизни, столько радости и тепла…
Когда мы ещё жили в Тульчине, Симе уже было двадцать пять лет. В таком возрасте все девушки были замужем, имели детей. Но Сима не унывала: она была полна жизнью и других заражала ею. А если она чего-то стеснялась, так это своих огромных грудей, которые никак не вмещались даже в самый большой лифчик. Это сегодня такие груди в „моде“, но тогда, да ещё при её-то малом росте и полноте? Парни у неё, конечно, были. Один – невысокий, худощавый и молчаливый, как пень. Нет чтобы обнять, приласкать или зажечь поцелуем, чтобы голова закружилась. Нет же, стоял, как высохшее деревце. Другой – хоть и улыбался чуть ли не до самых ушей, повторяя: „Я люблю тебя!“, „Я хочу тебя!“, читал пушкинское: „У лукоморья дуб зелёный…“. Но как только до него докатилось, что Сима из бедной семьи, его как ветром сдуло.
Но тут в Тульчин объявился молодой человек, Миша Алхазов, из горских евреев, из Дагестана. Приглядевшись к Симе, как к раскрывшейся розе, он сказал: „Я не знаю, как зовут тебя, как и не знаю, на какой улице ты живёшь. Но знаю, что будешь моей женой!“ Оказалось, что радости и доброты было в нём не меньше, чем у Симы. И уже через день-другой он увёз её к себе, в Махачкалу, где она подарила ему двух дочерей и сына».
Фрида мечтала стать врачом. Думала, что в Махачкалинский мединститут она поступит без особых проволочек. Но, увы, не прошла по конкурсу. Схватила двойку по сочинению – по предмету, который она больше всех знала и любила. Но уже через год она снова подала документы в тот институт. И опять неудача. Тогда-то Сима и посоветовала своей племяннице Фриде поступить в фельдшерско-акушерское училище. Фрида так и сделала. Но после его окончания, да ещё с красным дипломом, Фрида снова ринулась в тот институт. Думала, что на этот раз её как «округлённую» отличницу встретят с распростёртыми руками. Но и на этот раз Фриду в мединститут снова не приняли. Велели поработать на селе года три, а потом – пожалуйста. И Фриду направили в село Трисанчи, где её дожидались унылая комнатёнка в общежитии «для молодых специалистов» да захудалый медпункт…
«Медпункт представлял собой небольшой сарай без замка и оконной рамы, – писала Фрида. – В углу выпячивал стеклянный шкаф, внутри которого торчали флакончики с йодной настойкой, нашатырным спиртом и успокоительными каплями. Я готова была бежать, настолько жалкими и убогим выглядел медпункт с земляным полом и обшарпанными стенами. В подавленном настроении я направилась в местный сельсовет, там меня, можно сказать, приняли как королеву: и лепёшку с брынзой предложили, и зелёным чаем угостили. А через час-другой в медпункте объявились стекольщик, плотник, штукатур и уборщица с занавесками, полотенцем и зеркалом чуть ли не с меня „ростом“. А на другое утро за мной прислали машину, на которой я отправилась в Уркарах – в центральную районную больницу, где меня нагрузили медикаментами первой помощи, перевязочным материалом, новыми шприцами. Не прошло и двух дней, а медпункт выглядел как Дворец культуры. Вот только больных не было, будто в селе никто не чихал, не кашлял и за живот не хватался… Больные, конечно, были, но они больше обращались к местным шаманам или своим ходом добирались до районной больницы. А женщины, которые надумали рожать, обычно звали бабок-повитух».
Как-то в селе отмечали какой-то праздник, где не обошлось без потасовки, в которой парнишку ударили ножом по кисти правой руки. И толпа с криком метнулась в медпункт. Взглянула Фрида на большой палец, который едва держался на честном слове, как ей самой дурно стало. Фрида обработала рану, наложила пару швов и на попутке отправила парня в районную больницу. После этого случая в медпункт повалили больные без единого слова по-русски. Кто тыкал пальцем в живот, кто обнажал спину, кто оголял колени… Фрида делала вид, что всё поняла, не дура. Но терялась, когда больных донимали боли в животе. Этих больных она боялась, как пожара в лесу, и тут же направляла их в районную больницу…
«Дорогой Макс, Вас как врача интересуют больше необычные случаи из практики. К примеру, у меня был случай, когда я сама чуть было не померла от страха. В селе отмечали день 1-го Мая, когда меня вызвали к молодой роженице в соседнее село Джурмачи. Какие-то пацаны подвели лошадь к двери медпункта, помогли взобраться на седло, да ещё дали понять, что лошадь понятливая, умная, что дорогу в то село она отыщет с завязанными глазами.
В доме по меньшей мере меня встретили три бабки-повитухи. С обычными родами они бы сами справились. А тут насторожились. И нет чтобы беременную в родильное отделение района отвезти, так они меня, „профессоршу“, позвали. Помню, что я что-то ей шептала, поглаживала живот, показывала на себе, каким должен быть вдох, выдох… Но женщина всё равно кричала, будто я её кипятком поливала. К вечеру она всё же родила девочку, и я с облегчением вздохнула… Меня снова усадили на ту же лошадь, сунули в руки лепёшку с брынзой и пожелали хорошей дороги. Только подъехала к окраине Трисанчи, как я тут же спохватилась: я не освободила девочку от пуповины… И – обратно в то село. А на небе ни единой звёздочки. Хорошо, лошадь умницей оказалась: дорогу знала лучше зрячего человека. Отворяю дверь и – к матери девочки. Бабки-повитухи сами всё довели до конца.
В селе меня накормили, напоили чаем, уложили в постель, как царицу, а на другое утро меня чутьли не всем селом провожали… в Трисанчи».
А Фриде я написал, что горжусь её подвигами не меньше, чем медсестрой на поле боя, а она: «Боюсь, как бы Вы не сделали меня героиней Вашей очередной книги…». Тогда об этом у меня и мысли не было, но я осторожно поинтересовался, почему в её письмах нет ни слова о горячих парнях-адыгейцах.
Среди адыгейцев Фриде нравился хирург районной больницы – Зияутдин. Он был молод, строен, красив. И ростом удался. С этим врачом Фрида почувствовала, что любовь не знает границ, что она прекрасна и неповторима. Тогда-то я и загорелся желанием как можно больше узнать о любви двух юных сердец.
«А встретились мы с Зияутдином совершенно случайно. Как-то ко мне на приём пришла женщина с малышом двух лет. Малыш тяжело дышал, губы синие, будто по ним синей краской прошлись. Послушала лёгкие, а там – море хрипов. Ввела ему пенициллин и уже была готова отправиться с ним в районную больницу. Когда же я заглянула ему в ноздри – ужаснулась. Схватилась за пинцет как за ружьё. Из одной ноздри вытащила фасолину, из другой. И только тогда направилась с мальчиком в больницу. Я и потом наведывалась к нему. Но тут молодой хирург удивил меня не столько своим величественным ростом, сколько красивой осанкой и яркими огонёчками в чёрных глазах…
А дальше, как говорят, пошло-поехало. Зияутдин зачастил ко мне в медпункт, якобы „по дороге“… Он притаскивал с собой то бинты, то шприцы, то растворы для обработки ран. Разговаривая со мной, он обычно смущался, краснел, опускал глаза. Не иначе как влюбился. А почему бы и нет? Я – молодая, красивая, жгучая брюнетка… Копна вьющихся чёрных волос. Голубые глаза. Задумчивый взгляд. Манящая улыбка. Ровные, как столбики, зубы. Броская, утончённая фигура. Не случайно молодой художник, когда увидел меня в парке, загорелся желанием написать мой портрет… Но тут я откуда-то издалека услышала: „Ты такая красивая. Я не хочу тебя потерять“. Я разрешила себя обнять, поцеловать… Так это было до тех пор, пока однажды меня не остановили женщины и не предупредили, чтобы я отстала от их Зияутдина… И я решилась бежать, в Тульчин, наивно полагая, что Зияутдин меня и здесь отыщет, где никто больше не помешает нашей любви…»
Уже минул месяц, другой, третий… А Зияутдин молчал. Молчала и Фрида. Она потеряла интерес к жизни. Чувствовала себя брошенной, никому ненужной. Хотя рядом были отец, мать и её любимая сестрёнка Галя… Но не было его – Зияутдина, от встречи с которым всё замирало…
«После „побега“ из Трисанчи меня с большим трудом взяли на работу медсестрой в онкологическое отделение. Опасались, что меня начнут искать и просить, чтобы вернули обратно и что главврачу не поздоровится, что принял на работу „беженку“ из Трисанчи. После каждого дежурства у меня наворачивались слёзы оттого, что больным с раковой болезнью не всегда можно помочь. А тут ещё, придя на ночное дежурство, я приняла смену, обошла палаты, выполнила назначения врачей. Двумя-тремя словами перекинулась с няней-толстушкой, помогла ей взобраться на стол, чтобы снять пыль со светильника, и направилась в ванную. Но как только я приоткрыла дверь, как тут же закричала: в ванне лежала мёртвая женщина с открытыми глазами. А няня, когда услышала, как я закричала, упала на пол, держась за ногу. Вызвали дежурного врача, который помог мне прийти в себя, а няню с переломом ноги увезла скорая. Мне объявили выговор, после которого моё имя стало первым номером во всех притчах больницы. Да ещё намекнули, что это из-за меня няня сломала ногу. Когда же я почувствовала, что стала „чужой“, я подала заявление об уходе из больницы „по собственному желанию“».
Родители Фриды видели, что с дочерью творится неладное, только спросить не решались. Знали, что она всё равно ни с кем и словом не обмолвится. А тут Галя, сестра Фриды, уговорила её отправиться с ней на танцы в городской клуб. Кому-кому, а своей младшей сестрёнке Гале Фрида отказать не могла…
«Мне не было и пяти лет, когда в январе сорок шестого родилась Галя. У неё были голубые глаза и вьющиеся волосы цвета спелой пшеницы. Она была копией нашей мамы. Одно меня беспокоило: Галя часто болела, плакала и всегда хотела есть. Мама работала медсестрой в туберкулезно-менингитном отделении детской больницы. А я оставалась за няню. Меня Галчонок не отпускала от себя ни на шаг: куда я – туда она. Однажды, закутав её в одеяло, я усадила её на санки и – на горку. Когда мы катались, нам было весело, но уже на другое утро мама забрала её в больницу с воспалением лёгких… Я любила мою сестрёнку, дралась с её обидчиками, когда она пошла в школу. Училась Галя на одни пятёрки. Не то что я, когда взамен уроков читала книги, которые жили во мне как «приложение» к сердцу.
Но тут Галя потянула меня за локоть:
– Смотри, кто там стоит?
– Где?
– В углу, возле окна.
– В морской форме?
– Да!
– Так это же Лёвка. Лёвка Вайсман… Из нашей школы…
Я, конечно, сразу узнала Лёвку, хотя он заметно возмужал, стал солиднее, стройнее, симпатичнее. Учился он неважно, часто пропускал школу, скучал на уроках, хватал двойки, а когда его вызывали к доске, отвечал, что ему и за партой неплохо сидится. Лёву то оставляли на второй год, то исключали, то снова возвращали: не дать же сироте пропасть. Но девчонкам Лёва нравился. Для них он был „вожаком“ класса. Они звали его когда в парк, когда в кино, а то и за город, где целовались до захода солнца. А вскоре он и вовсе исчез, не дотянув не то до шестого, не то до седьмого класса. Не показывался он и дома, где жили чудом спасшиеся в лагере „Мёртвая петля“ его бабушка Рухл, дедушка Наум и тётя Поля, которые заменяли ему потом мать и отца, убитого в первый же месяц войны. Вот только заразить его хорошей книгой или школьным учебником они не могли. А тут Лёва как с неба свалился: высокий, стройный, в морской форме. Приметив нас, он тут же направился в нашу сторону.
– Ты – Фрида?!
– А ты, стало быть, Лёва.
– Он самый.
– Тебе бы в школе показаться…
– Я там уже был…
– И…
– Не узнали, пока я сам не напомнил о себе.
– Всё ещё по морям ходишь?
– Уже нет.
– Что так?
– Наплавался.
– А живёшь где?
– У тёти Поли, которая меня в кустах подобрала…
– А теперь ты хочешь пригласить меня на танец?
– Не только на танец.
– И куда ещё?
– В ЗАГС…
Лёва не стал дожидаться, что я отвечу, и закружил меня в „Вальсе Цветов“ из балета „Щелкунчик“ Петра Ильича Чайковского. Я тогда не знала, что толкнуло меня к Лёве: то ли страх перед одиночеством, то ли чарующие звуки музыки?..»
«Когда Лёва предложил мне стать его второй половинкой, я не горела особым желанием, а тем более любовью к нему. Хотя я чувствовала, что нравлюсь ему, что он любит меня и готов уехать со мной хоть на край света, лишь бы я стала его второй „половинкой“. Но перед тем, как отправиться с ним в ЗАГС, я напомнила Лёве, что свадьбы не будет и что уже на другой день мы уедем в Запорожье. Но в Запорожье нам не повезло ни с квартирой, ни с работой. И мы направились в Каспийск, где жила моя тётя Сима. В Каспийске меня взяли на работу в роддом – в палату для новорождённых. А когда операционную медсестру проводили на пенсию, её место заняла я…»
Для Фриды было важно, что Лёва любит её, любит молча, больше глазами. И это радовало её. Фрида ни в чём Лёву не упрекала, она старалась всё делать так, чтобы его ничто не огорчало. Если она видела, что Лёва читал книгу или газету, она ему не мешала. Если у неё и вырывалось нечто такое, что могло его обидеть, она извинялась. Но с каждым последующим днём Фрида всё больше думала о Лёве. И с радостью встречала его с работы, переживала, если он задерживался. Но как только он возникал на пороге, она тут же говорила: «Мой руки и – к столу». Когда же они возвращались с работы уставшими, голодными, что были не в силах что-то сварганить на кухне, Лёва объявлял:
– Есть мысль.
– Какая?
– Смотаться в кафе.
– Принято!..
И они неслись в кафе…
«Я готовилась стать мамой. Рождение Аллочки и её воспитание полностью легло на плечи Лёвы. Он оказался чудесным отцом. Он и кормил её, и купал, и пелёнки стирал, и на прогулку выводил, и спать укладывал. И песенки разучивал с ней, и зарядку делал, и танцам учил… Таким же хорошим, добрым и нежным он был и с Бэллой, второй нашей дочерью. На них было любо смотреть: он то заражал их смехом, то играл с ними в догонялки, в классики; то баловал мороженным, печеньем или леденцами – популярными в те годы конфетами монпасье. А с годами, когда у нас появились внуки, оторвать Лёву от них было невозможно… Если бы не он, вряд ли я бы справилась с работой и домашними обязанностями…»


