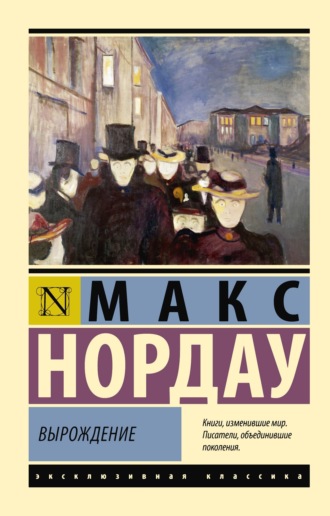
Макс Нордау
Вырождение
Торговля, промышленность, культура нигде не достигли такого процветания, как в Англии. Нигде люди не работали с таким напряжением, нигде не жили они в таких искусственных условиях, как там. Поэтому состояние вырождения и истощения, наблюдаемое ныне повсеместно во всех цивилизованных странах, должно было проявиться в Англии раньше, чем в других странах. И действительно, уже в тридцатых и сороковых годах оно приняло там широкие размеры. Но этого рода впечатлительность должна была, вследствие особенностей английского духа, неизбежно принять религиозную окраску.
Англосаксонцы по природе – племя крепкое и здоровое в физическом и умственном отношении. Поэтому в них сказывается сильная жажда знания, свойственная всякому нормальному человеку. Они всегда стремились к уяснению себе причин явлений и с страстным вниманием и благодарностью относились ко всякому, кто отвечал на их запросы. Все писатели, изучившие древнюю английскую литературу, между прочим Густав Фрейтаг и И. Тэн, передают нам известную глубокомысленную речь английского рыцаря о том, что предшествует жизни человека и что следует за нею; ее сохранил нам Беда в своем рассказе об обращении короля Эдвина в христианство. Эта речь доказывает, что уже в начале седьмого столетия у англосаксонцев проявлялась страстная потребность понять мировые явления. Эта прекрасная и благородная черта, эта любознательность сделалась силою и в то же время слабостью англичан. Она привела к равномерному развитию естественных наук и богословия. Естествоиспытатели приводили в сводную систему добытые путем тяжелого наблюдения факты, а богословы – метафизические понятия. Но те и другие претендовали на объяснение сущности вещей, и народ с глубокою благодарностью внимал им, хотя богословам все-таки более, чем ученым, потому что они поучали самоувереннее и давали больше общих сведений. Склонность людей отождествлять слова с фактами и простые уверения с доказательствами дает метафизикам громадное преимущество перед представителями точного знания. Любознательность англичан породила одновременно и индуктивную философию, и спиритизм. Им обязано человечество лордом Бэконом, Гарвеем, Ньютоном, Локком, Дарвином, Дж. Ст. Миллем, но даже и Беньяном, Беркли, Мильтоном, пуританами, квакерами и всеми религиозными фанатиками, апокалиптиками и медиумами нынешнего столетия. Ни один народ не сделал так много для своих ученых и не ставил их так высоко, как англичане; но в то же время ни один не искал с такою искренностью и покорностью поучения в области метафизики. Следовательно, стремление к познанию является и главной причиной английской набожности. Наряду с этим следует принять еще во внимание и то обстоятельство, что высшие классы английского общества никогда не проявляли индифферентизма в религиозных вопросах и, в противоположность Франции, где в XVIII в. в моде было вольтерианство, систематически возвели религиозность в отличительный признак принадлежности к избранному обществу. Историческое развитие Англии привело к двум результатам, по-видимому несовместным, к кастовому господству и личной свободе. Понятно, что сословие, имеющее в руках власть и богатство, защищает свои привилегии. При безусловной независимости английского народа к физическому принуждению оно прибегать не могло; поэтому оно всегда стремилось действовать на низшие классы духовными средствами.
Этим и объясняется религиозный характер умственного вырождения англичан. Первым результатом эпидемического вырождения и истерии было оксфордское движение тридцатых и сороковых годов. Уайземан вскружил головы всем слабоумным, Ньюмен перешел в католицизм, Пьюсей нарядил все высшее английское духовенство в римско-католическое облачение. Скоро народился и спиритизм, и замечательно, что все медиумы ведут богословские речи. Собрания «ревивалистов» семидесятых годов и нынешняя «армия спасения» являются прямым продолжением оксфордского движения, но приспособленным к понятиям низших классов. В искусстве религиозная мечтательность выродившихся и истеричных англичан выразилась прерафаэлизмом.
Точное значение этого слова уяснить себе невозможно, потому что оно изобретено мистиками и, подобно всем словам, вымышленным слабоумными и душевно расстроенными, обладает свойствами расплывчатости и неопределенности. Первые члены братства думали найти в художниках четырнадцатого и пятнадцатого столетий, в предшественниках великих гениев умбрийской и венецианской школ, умы, одинаково с ними настроенные; поэтому они взяли себе за образец их манеру писать и придумали себе название «прерафаэлитов», которое должно было им особенно нравиться, потому что частичка «пре» возбуждает представление о чем-то древнем, отдаленном, едва доступном воображению, сказочном, таинственном. Прерафаэлиты обязаны Джону Рёскину этим стремлением искать художественные идеалы в седой старине.
Рёскин – один из самых туманных и ложных умов нынешнего столетия, но он замечательный стилист. Писания его – дикий бред, но бред фанатика, чувствующего очень глубоко. Его настроение напоминает настроение испанских инквизиторов; он – настоящий Торквемада в эстетике. Охотнее всего он сжег бы не сочувствующих ему критиков и тупых профанов, не восторгающихся произведениями искусства. Но так как устраивать костры не в его власти, то он мечет гром и молнии и уничтожает еретиков руганью и проклятиями. В то же время он, однако, глубокий знаток истории искусства. Когда он говорит об очертаниях облаков, он указывает на шестьдесят или восемьдесят картин, рассеянных по всем музеям Европы. И заметьте, он писал в сороковых годах, когда светопись, так сильно облегчающая изучение классических произведений искусства, еще не была известна. Его знания, его ученость покорили англичан; ими объясняется влияние, которое имел Рёскин на художественный вкус и эстетические воззрения англосаксонской расы. Положительный английский ум требует цифр, точных данных. Стоит их дать, и англичанин доволен: он готов согласиться с явною ерундою, если она подкреплена статистическими таблицами. Можно признать чисто английскою чертою, что Мильтон в описании ада и его обитателей столь же добросовестен и точен, как был бы землемер или естествоиспытатель. Рёскин замечательно усвоил себе эту английскую особенность, соблюдающую крайнюю точность в нелепостях, измеряющую и взвешивающую привидения.
Его страстные этюды, соединенные впоследствии в одну книгу под общим заглавием «Современные художники», начали появляться в 1843 г. и совпали с началом великого католического движения. Он был тогда молодым богословом и критиковал произведения искусства с богословской точки зрения. Средневековая схоластика стремилась превратить философию в рабыню богословия; Рёскин хотел то же сделать с искусством. Скульптура, живопись должны быть формою богослужения или вовсе не быть. Произведение искусства имеет значение лишь настолько, насколько в нем выражается сверхчувственная мысль; не совершенство формы, а религиозное чувство, его вдохновившее, заслуживает внимания. В подтверждение приведем собственные слова Рёскина. «Мне кажется, – говорит он, – что грубая картина действует часто сильнее, чем тонко исполненная, и что вообще картины вызывают тем меньше любопытства и почтения, чем они совершеннее в техническом отношении… Значение живописца или писателя в конце концов определяется содержанием их произведений, а не формою. Картина, содержащая в себе много благородных мыслей, как бы плохо они ни были выражены, лучше и значительнее, чем картина с менее благородными мыслями, хотя бы они были выражены прекрасно… Чем менее средства соответствуют замыслу, тем сильнее впечатление картины».
Эти основные положения Рёскина вошли целиком в эстетику первых прерафаэлитов. Они чувствовали, что Рёскин ясно выразил то, что их занимало. Форма безразлична; вся сила в замысле. Чем несовершеннее первая, тем глубже впечатление; религиозное настроение – единственное содержание, достойное произведения искусства. И вот прерафаэлиты начинают изучать историю искусства с этой точки зрения и находят то, чего они ищут, в картинах предшественников Рафаэля, которыми так богата Лондонская национальная картинная галерея. Все эти Фра Анджелико, Джотто, Чимабуэ, Гирландайо, Полауоло дали им те совершенные образцы, которых они искали. Эти плохо писанные или выцветшие от времени картины с их ребяческим изображением рая и ада несомненно дышат набожностью; им легко было подражать вследствие их несовершенства, и в то же время они представляли столь сильное противоречие с тогдашним эстетическим вкусом, что вполне могли удовлетворить стремлению к парадоксальному, причудливому, составляющему, как мы видели, одну из особенностей слабоумных людей.
Теория Рёскина совершенно несостоятельна. Он бессознательно или преднамеренно упускает из виду, что картина действует не столько своим содержанием, сколько именно формою. Она сперва дает чисто чувственные впечатления прекрасными деталями и гармониею красок, затем – иллюзию действительности и высшее удовольствие отгадывания мысли художника, наконец – возможность наслаждаться такими деталями или общими чертами, которых менее одаренный в художественном отношении зритель сам не мог бы уловить. Живописец, следовательно, может действовать средствами своего искусства лишь настолько, насколько он действует гармониею цветов, вызывает иллюзию действительности и раскрывает скрытые для обыкновенного глаза художественные красоты предмета. Самый сюжет является уже не чисто художественной заслугой. Тут уже проявляется умение отгадывать настроение, пользоваться наклонностями, воспоминаниями, предрассудками публики. Художественная картина, например «Мона Лиза» Леонардо, приводит в восторг всякого человека с эстетическим вкусом. Жанровая картина, не отличающаяся художественными красотами, вызывает лишь равнодушие в том, кто не интересуется сюжетом. Картина, которая, например, изображала бы победу французов над пруссаками, возбуждала бы восторг во Франции, даже если бы она была грубо намалевана, и при том же условии икона трогает католика и не возбуждает никакого сочувствия в протестанте.
Конечно, существует живопись, стремящаяся действовать не совершенством формы, а идейным своим содержанием. Эта живопись имеет особое название: это – письменность, а знаки, которыми она пользуется, называются буквами; искусство же дать выражение идее этими знаками называется не живописью, а поэзиею. Уже в самом начале своего развития живопись, удовлетворяющая эстетическим потребностям, отделилась от письменности, олицетворяющей мысль, и Рёскину принадлежит сомнительная заслуга уничтожения различия, установленного уже за шесть тысяч лет тому назад фиванскими грамотеями.
Но прерафаэлиты пошли еще дальше Рёскина, у которого они заимствовали свои руководящие идеи. Почему слабые картины предшественников Рафаэля производят на нас такое трогательное впечатление? Потому, что все эти Джотто и Чимабуэ были искренни. Они хотели быть ближе к природе и освободиться от стеснительных традиций византийской школы, далеко уклонившейся от истины. Они энергично боролись с плохой, чисто ремесленной манерой писания своих учителей. Зрелище человека, выбивающегося из сил, чтобы порвать связывающие его узы и отстоять свою личную свободу, чрезвычайно привлекательно. Разница между предшественниками Рафаэля и прерафаэлитами заключается именно в том, что первые отыскивали правильные способы рисования и живописи, между тем как последние силятся забыть их. Поэтому то, что приводит в восторг у первых, отталкивает у вторых. Вы имеете тут дело с контрастом между лепетом цветущего ребенка и шамканьем слабоумного старца, детскою наивностью и ребячеством. Но это возвращение к начаткам, это кокетничание с простотою, эта игра в детки словами и ужимками – явление весьма распространенное у слабоумных, и мы ее не раз еще встретим у поэтов-мистиков.
Согласно учению их теоретика Рёскина, падение искусства для прерафаэлитов начинается с Рафаэля. И это очень понятно. Подражать какому-нибудь Джотто или Чимабуэ сравнительно легко. Но чтоб подражать Рафаэлю, надо самому рисовать в совершенстве, а это было не под силу первым членам братства. К тому же Рафаэль жил во время расцвета Возрождения. Заря новой мысли сияет в его жизни и его творениях. Он уже рисовал не одни религиозные, но и мифологические, и исторические картины, или, как говорят мистики, обратился к светским сюжетам. Его картины действуют не только на религиозное, но и на эстетическое чувство. Это не исключительное служение Богу и, следовательно, – как выражается Рёскин, а за ним и его последователи – это служение дьяволу. Слабоумные склонны противоречить всему, что признается неопровержимым, и находить в искусстве плохим то, что другим представляется совершенным. В течение трех веков все признавали Рафаэля величайшим художником. И вот прерафаэлиты говорят: «Рафаэль знаменует собою глубочайшее падение искусства». Вот почему они присвоили себе название прерафаэлитов, намекая им именно на Рафаэля, а не на какого-либо другого великого мастера или другую эпоху в развитии искусства.
Последовательности от мистика ожидать нельзя. Рёскин, с одной стороны, утверждает, что художник не имеет права по своему усмотрению изменять что-либо в природе, что это свидетельствует о «неспособности, лености или дерзости», т. е. что живописец должен передавать природу так, как он ее видит, не допуская ни малейшего изменения; но, с другой стороны, он говорит, что «каждая былинка, каждый цветок, каждое дерево имеет свой идеальный первообраз» и что к нему они и стремятся, если на них не влияет случай или болезнь, – задача же живописца заключается в том, чтобы уяснить себе и передать другим этот идеальный первообраз.
Эти два положения, очевидно, друг другу противоречат. Идеальный первообраз составляет не наблюдение, а гипотезу. Различение существенного от случайного – дело разума, а не глаза и эстетического чувства, а задача живописи заключается в изображении действительности, а не предполагаемого, конкретного, а не абстрактного. Взгляды на законы, управляющие явлениями, изменчивы, как изменчивы наши представления и господствующие научные теории. Живописец изображает не эти взгляды, а чувственные впечатления, так как задача искусства заключается в возбуждении не мыслительной деятельности, а душевных волнений.
Прерафаэлиты не поняли этого противоречия и слепо подчинились теориям Рёскина. В человеке они искали идеальный первообраз, но в аксессуарах они ничего не изменяли. Они с величайшею точностью передавали и ландшафт, и предметы, окружающие изображаемых ими лиц. Ботаник отличает всякую травку, всякий цветок, столяр – скрепления и склейку, род дерева и т. д. Эта добросовестная отчетливость выступает у прерафаэлитов столь же резко на первом плане, как и на заднем фоне, где, по законам оптики, ее различить нельзя. Она-то и служит выражением неспособности быть внимательным. Внимание подавляет часть явлений и вызывает те, на которые распространяется наблюдение. Если живописец воображает все однообразно, то мы не можем угадать, что он, собственно, хотел сказать. Тогда его произведение напоминает нам бормотанье слабоумного. А между тем этот род живописи именно имел влияние на современное искусство. Ботанически верное изображение дерева, цветов и деревьев, геологически – правдивые скалы, горные образования и почвы, отчетливые узоры на коврах и обоях – все это заимствовано современными художниками у Рёскина и прерафаэлитов.
Эти мистики воображали, что они, по примеру предшественников великого Рафаэля, пишут религиозные картины. Это был самообман. Джотто, Чимабуэ, Фра Анджелико не были мистиками, или, лучше сказать, они были мистиками по невежеству, а не вследствие слабоумия. Средневековый живописец, изображая религиозный сюжет, был убежден, что он изображает правду. Он был реалистом, рисуя сверхчувственное. Религиозное предание ему сообщалось как факт; он был проникнут сознанием буквальной его правды и передавал его так, как он передал бы всякий другой правдивый рассказ. Публика подходила к его картине в том же настроении. Для средневекового общества религиозное произведение искусства имело такое же значение, как для нас рисунки в бытописательных или естественно-исторических книгах. С этой бесхитростной верой мистическая живопись не мирилась, а живописец избегал всего туманного, таинственного. Он изображал не сновидения и настроения, а документы; он убеждал и мог убедить, потому что сам был убежден.
Совершенно не то приходится сказать о прерафаэлитах. Они изображали на своих картинах аллегории и смутные символы, не имеющие ничего общего с виденною действительностью. Я приведу лишь один пример: «Тень смерти» Ханта. На этой картине изображен молящийся Христос с распростертыми руками, а тень, падающая от него, имеет форму креста. Это поучительный пример направления мысли у мистиков. Хант представляет себе Христа молящимся; в то же время у художника возникает представление о распятии Христа. Эту ассоциацию идей он хочет сделать видимою при помощи имеющихся у искусства средств. И вот он изображает фигуру Христа, отбрасывающую тень или предсказывающую его участь; выходит, что какая-то непонятная сила повернула эту фигуру к солнечным лучам таким образом, что на земле обрисовалась тень, изображающая роковое предзнаменование. Эта выдумка совершенно бессмысленна. Со стороны Христа было бы слишком наивно предсказывать свою возвышенную смерть таким хвастливым образом. К тому же современники не могли бы понять это знамение, пока Христос не претерпел смерти на кресте. Но в сознании Холмена Ханта возникают одновременно представление о молящемся Христе и представление о кресте, и он, не давая себе отчета в разумном их соотношении, соединяет их. Если бы предшественнику Рафаэля пришло в голову изобразить молящегося Христа, чувствующего близость своей страдальческой смерти, то он дал бы нам реальную картину молящегося Христа, а распятие изобразил бы не менее реально где-нибудь в углу картины, но никогда не стал бы соединять оба представления в один туманный, расплывчатый образ. В этом и заключается разница между религиозною живописью верующего, но нормального человека, и живописью развинченного психопата.
С течением времени прерафаэлиты отрешились от многих чудачеств. Миллес и Холмен Хант уже не манерничают намеренно плохим рисунком и простодушным подражанием Джотто. От основных мыслей своей школы они сохранили только тщательную передачу деталей и идейную живопись. Один благосклонный к ним критик, Эд. Род, замечает: «Они были сами писателями, и их живопись – писательство». Эти слова до сих пор верны, а некоторые из первых прерафаэлитов сразу прониклись этой мыслью. Они вовремя поняли, что ошиблись в выборе призвания, и перешли от живописи, т. е. писания мысли, к настоящему писательству.
Самым выдающимся из них является Данте Габриель Россетти, сын итальянского карбонария и знатока Данте; родился Россетти, однако, в Англии. Отец окрестил его именем великого итальянского поэта, и это обстоятельство имело решающее влияние на настроение мальчика. Россетти представляет собою весьма поучительное подтверждение слов Бальзака, что имя играет важную роль в деле развития и судьбе человека. Все поэтическое творчество Россетти коренится в Данте. Его миросозерцание представляет неясный сколок с миросозерцания флорентийского поэта. Все его представления более или менее проникнуты воспоминанием о «Божественной комедии» или «Новой жизни».
Этот подражательный характер произведений Россетти выясняется при разборе одного из самых известных его стихотворений – «Блаженная девушка», в то же время в этом стихотворении чрезвычайно рельефно выступают отличительные черты работы мистического мозга. В первой строфе говорится: «Блаженная девушка прислонилась к золотым перилам неба; глаза ее были глубже глубины воды при вечернем освещении. В руке у нее были три лилии, а в волосах – семь звезд». Вся эта картина утраченной любимой девушки, взирающей в райском убранстве на возлюбленного с неба, походящего на роскошный дворец, – не что иное, как отзвук третьей песни Дантова «Рая», где Пресвятая Дева обращается к поэту с луны. Даже детали те же, например: глубокие, тихие воды. «Лилии в руке» заимствованы из картин предшественников Рафаэля, но тут есть и тихий отзвук утреннего привета из «Чистилища». Затем, обозначая любимую девушку англо-романским словом damozel, автор намеренно хочет затемнить ясно очерченный образ, возникающий у нас при слове «девушка». Название damozel вызывает в воображении английского читателя неопределенное представление о стройной благородной девушке, гордых норманнских рыцарях, о чем-то отдаленном, отжившем, полузабытом, переносит его в таинственную глубь Средних веков и вызывает представление о волшебном образе баллады. Одно это слово уже воскрешает в душе читателя смутное настроение, сохранившееся в ней от знакомства со всеми поэтами и писателями романтической школы. В руку этой damozel Россетти влагает три лилии, а голову ее он украшает семью звездами. Числа эти не случайны: они издавна считаются таинственными и священными. «Три» и «семь» указывают читателю на нечто неведомое и значительное.
Однако, указывая на средства, которыми Россетти пользуется, чтобы выразить свое душевное настроение и передать его читателю, мне не хотелось бы вызывать нарекание, будто я осуждаю лирику и поэзию вообще и вижу в ней одно мистическое слабоумие. Правда, что все поэты склонны употреблять слово, которое, заключая в себе определенные представления, вместе с тем уже само по себе возбуждает известное настроение. Но творчество нормального поэта коренным образом отличается от творчества болезненно настроенного мистика. Неопределенное слово, употребляемое первым, имеет разумный смысл, вызывает во всяком нормальном человеке волнение, и это волнение касается основного сюжета стихотворения. Образцом может служить известное стихотворение Фета[17] «Шепот, робкое дыханье, трели соловья…». Тут с каждым словом связано определенное представление, и каждое из них возбуждает в читателе те чувства, которые волнуют автора. Когда же Россетти вплетает в свое стихотворение мистические числа «три» и «семь», то они сами по себе ничего не означают, не вызывают в нормальном читателе никакого волнения, и даже истеричные, увлекающиеся черной магией, если и почувствуют волнение, то оно вовсе не будет касаться основного предмета стихотворения, т. е. появления умершей возлюбленной.
Но вернемся к разбору стихотворения Россетти. Девушке кажется, что она славословит Бога всего один день; но для осиротелых день этот был десятью годами, а для одного из них он был «десятилетием годов» (ten years of years). Это – чисто мистическое времяисчисление. Оно ничего не означает. Может быть, Россетти представляет себе высшую единицу, к которой отдельный год относится так, как день к году. Следовательно, 365 лет составляют год высшего порядка. В таком случае «год годов» равнялся бы 365 годам. Но Россетти не поясняет своей мысли.
«Она стояла у обводной стены Божьего дома, сооруженной Богом над бесконечною глубиною, составляющей не что иное, как начало пространства, – стояла так высоко, что, глядя оттуда, она еле отличала солнце. Дом находился на небе по ту сторону волн эфира, образующего мост. Под ним время, сменяющиеся день и ночь волнуют пустоту пламенем и мраком до той глубины, где земля летит, словно причудливая моль. Вокруг нее говорили влюбленные, только что опять соединившиеся, повинуясь призывам бессмертной любви и обмениваясь в экстазе своими новыми именами. И мимо нее пролетали, словно тонкие огни, поднимавшиеся к Богу души… С небесной тверди она видела, как пульс времени дико бьется среди всех миров».
Я предоставляю читателю воспроизвести в своем воображении все детали этого описания и соединить их в одну общую картину. Если после добросовестных усилий ему это не удастся, то он может себе спокойно сказать, что виноват не он, а автор.
Damozel начинает говорить. Она желает видеть возлюбленного около себя. Он ведь придет. «Когда он на голову возложит лучистый венец и облечется в белое одеяние, я его возьму за руку и пойду с ним к глубокому кладезю света. Мы спустимся с ним, словно к реке, и там, пред лицом Господа, выкупаемся вместе».
Заметим, как здесь, в этом потоке бессмысленных выражений, ясно выделяется представление о совместном купанье. Чувственность никогда не отсутствует у мистиков.
«Затем мы отыщем рощи, где пребывает Пресвятая Дева с ее пятью фрейлинами, имена которых составляют пять сладостных симфоний: Цецилия, Гертруда, Магдалина, Маргарита и Розалия».
Это перечисление пяти женских имен наполняет два стиха. Такого рода стихи часто встречаются у мистиков. Тут слово перестает быть символом определенного понятия или представления и превращается в простой звук, который должен путем ассоциации идей вызвать разные приятные эмоции. В данном стихотворении женские имена вызывают представление о красивых молодых девушках, а имя Розалии, кроме того, о розах и лилиях.
«Блаженная девушка» подробно рисует себе картину соединения с возлюбленным, и затем автор говорит: «Она положила руки на золотые перила, закрыла лицо руками и заплакала. Я слышал ее слезы».
Слезы эти непонятны. «Блаженная девушка» после смерти живет в золотом дворце перед лицом Господа и Святой Девы. Что же ее печалит? Отсутствие возлюбленного? Десять лет для нее все равно что один день. Если ее возлюбленному суждено дожить даже до очень преклонного возраста, то ей придется ждать всего пять или шесть дней до свидания, а затем – до вечного блаженства вместе с ним. К чему же ей печалиться и проливать слезы? Но дело в том, что у Россетти все представления: вечное блаженство, бессмертие, уничтожение личности, вечная разлука и т. д. спутаны; даже в деталях он себе противоречит. Так, умершие появляются в белых одеяниях, с лучистым венцом на голове, гуляют попарно и называют друг друга ласкательными именами, и в то же время они представляются поэту в виде «тонких огней», проносящихся мимо «блаженной девушки». В «Божественной комедии», от смутного влияния которой Россетти не может отрешиться, мы ничего подобного не находим. Но Данте, как и предшественники Рафаэля, были мистиками по недостатку знаний, а не по слабоумию. Материал, который они обрабатывали, т. е. факты, могли быть ложны, но самая работа над ними была последовательна и уверенна. Все их представления ясны, приведены в стройную связь, не противоречат друг другу. Дантовский ад, чистилище, рай построены на науке того времени, черпавшей свое миросозерцание исключительно в догматическом богословии. Данте был знаком с системой Фомы Аквинского и проникся ею. Первым читателям «Ада» знаменитое стихотворение представлялось не менее убедительным и фактически обоснованным, чем нынешней публике – «Естественная история мироздания» Геккеля. Будущие поколения, вероятно, признают наши представления об этом, эфире и его колебаниях, поэтическим вымыслом, подобно тому как мы сами признаем таким вымыслом средневековые представления об участи, ожидающей умерших. Но тем не менее никто не имеет права называть Гельмгольца или Уильяма Томсона мистиками на том основании, что они в своих работах основываются на гипотезах, еще не вполне проверенных. Точно так же Данте нельзя назвать таким мистиком, каким является Россетти, руководствующийся не научными данными своего времени, а зачатками туманных и противоречивых представлений. Данте глубоко наблюдает действительность и переносит ее даже в свой «Ад»; Россетти не в состоянии понять или видеть действительность, потому что не умеет быть внимательным, и, сознавая свой недостаток, он, как водится, убеждает себя, что не хочет того, чего, в сущности, не может. «Какое мне дело, – сказал однажды Россетти, – вертится ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли». В самом деле, какое до этого дело автору «Блаженной девушки»?
В других стихотворениях Россетти вы постоянно наталкиваетесь на ту же смесь сверхчувственного и сладостных порывов, на те же туманные мысли, на то же бессмысленное сочетание противоречивых представлений. Входить в их разбор было бы излишне, но мы должны остановиться на некоторых особенностях, как необыкновенно характерных для мозговой деятельности этих слабоумных поэтов.
Прежде всего, мы должны отметить их пристрастие к постоянно возвращающейся рифме, которая, вообще говоря, является хорошим художественным приемом для выражения преобладающего душевного настроения поэта; но у Россетти этого рода рифма не имеет ничего общего с выраженным в стихотворении душевным настроением, а носит характер назойливого представления. Так, например, в стихотворении «Город Троя» (Troy town) поэт нам рассказывает, как Елена, задолго до похищения ее Парисом, молилась в Спарте в храме Венеры и, опьяненная роскошью собственного тела, умоляла богиню любви поднести ее в виде дара возлюбленному мужчине, кем бы он ни был. Я только мимоходом отмечаю пошлость основной идеи. Первая строфа гласит: «Рожденная небом Елена, спартанская царица, – о город Троя! – имела две груди, блестевшие, как небо, солнце и луну сердечного вожделения; между ними лежала вся роскошь любви. О, Троя пала. Величественная Троя охвачена пламенем. – Елена опустилась на колени пред алтарем Венеры – о город Троя! – и промолвила: “Дай мне малый дар, малый дар для сердечного вожделения. Внемли моим словам и дай мне знамение”. – О, Троя пала. Величественная Троя охвачена пламенем».
Так в четырнадцати строфах после первого стиха следуют слова: «О город Троя»; третий стих кончается словами: «Сердечного вожделения», а за четвертым следуют слова: «О, Троя пала. Величественная Троя охвачена пламенем». Ясно, чего, собственно, хочет Россетти. Тут мы наблюдаем тот же процесс мышления, какой проявляется у Ханта на картине «Тень смерти». Как сам поэт при мысли об Елене в Спарте путем ассоциации идей переходит к представлению о позднейшей судьбе Трои, так и читатель при виде опьяняющей красоты молодой царицы тотчас же должен представить себе и отдаленные трагические последствия ее любовных стремлений. Но автор даже не пытается разумно связать эти две группы представлений, а только то и дело повторяет однообразным тоном, словно заупокойную молитву, таинственные воззвания к Трое. Солье указывает на эту особенность, встречающуюся у слабоумных. «Идиоты, – говорит он, – вставляют в речь слова, не имеющие никакой связи с предметом, о котором они говорят». И далее: «У идиотов беспрестанное повторение одного и того же слова (le rabâchage) становится своего рода тиком».



