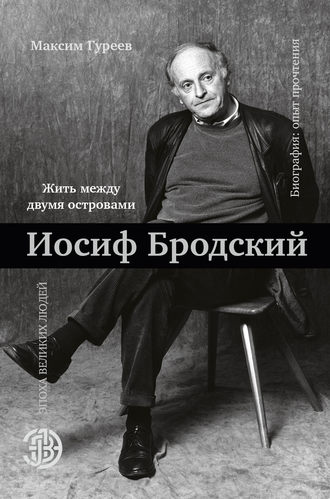
Максим Гуреев
Иосиф Бродский. Жить между двумя островами
Эписодий Четвертый
Из письма Иосифа Бродского Элеоноре Ларионовой от 7 августа 1958 года: «Есть на Земле люди, которые стремятся сделать будущее более сносным, нежели настоящее. Это настоящие писатели, настоящие врачи, настоящие педагоги. Настоящие – это значит – творцы. Я хотел бы стать чем-нибудь стоящим. Для этого нужно знать много вещей. Если ты собираешься творить, то необходимо усвоить себе, для кого, для чего ты это делаешь… Необходимо найти фундамент, на который намерен опереться; необходимо проверить его прочность. Необходимо также найти людей, которые верят в ту же самую идею, которые помогут. Это, собственно, главное. Нужно, в общем, очень долго искать.
Я здорово сожалею, что поздно начал, как ты выражаешься, путешествовать. Эти два года, безусловно, не прошли даром. Но тот же самый результат мог быть достигнут и за более короткий промежуток времени. Я, собственно, только начинаю. Только начинаю по-настоящему заниматься делом. Я только начинаю странствовать… Да, я слишком занят собственной персоной. Я раскатал тебе на полтора листа гимн своим взглядам, но я хочу, чтобы ты усвоила содержание моего ответа твердо. Ты вот пишешь, да и говоришь весьма часто, что я перелетная птица, дилетант. Пойми же, Норка, это – поиск.
Я жонглирую своей судьбой не ради чего-то определенного, стабильного для себя. Ну в том смысле, что я вовсе не намерен выбирать себе какую-то иерархическую лестницу и продвигаться по оной… Я уже давно решил вопрос о цели. Теперь я решаю вопрос о средствах. Мне кажется, что я нахожу правильное решение. Это звучит и глупо, и высокопарно. Но это происходит потому, что я популяризирую идею. Я хочу, чтобы ты поняла меня верно. То, что я делаю, это только поиск. Новых идей, новых образов и, главное, новых форм».
Этот манифест (он же программа действий) был написан Бродским в экспедиции в Архангельской области, где он работал в геологической партии в качестве разнорабочего. Тяжелый физический труд, тучи комаров и мошки, спирт, чифирь, тормозная жидкость, предельно аскетические условия проживания, полная удаленность от контролирующих органов и «всевидящего ока» власти – идеальные условия для начала внутреннего странствия, вернее сказать, для его продолжения.
Античные руины города Петра и Ленина уступили место Немейскому лесу, который распростерся от Беломорского побережья до земель Коми, и от Онежского озера до Кольского полуострова. Безобразные демоны и прекрасные нимфы, лютые хищники и злобные духи тут таятся на заброшенных погостах, одолевают отшельников в уединенных скитах, извергают на одиноких странников кровососущих насекомых и ядовитых болотных гадов.
Из интервью Иосифа Бродского: «Мы делали карту пород, залегающих в этой местности, на Севере. Это была карта четвертичного залегания, то есть слоёв грунта, недалеко уходящих в глубину: глина и так далее. Шурфы бьются на метр-полтора. В день мы нахаживали по тридцать километров, забивали четыре шурфа. Или, поскольку это было в тундре, в болотах, делали прокол. Просто брали шест, забивали и что-то вытаскивали, чего там было. Там, как правило ничего не было… хотелось найти уран, естественно».
Но как только затихали двигатели тракторов и тягачей, лесовозов и трелевочных машин, Иосиф конечно же, слышал над этим уходящим за горизонт пространством истошные вопли Пана, сопровождаемые хоровым пением всех этих Аргосов, Ксанфов, Питид, Фавнов, Филамнов, Фобосов и Эгокоров.
Оказаться здесь по собственной воле (через несколько лет Бродский будет сюда доставлен насильно) есть свидетельство постоянного и весьма напряженного поиска новой формы бытования в стране, где попытка заглянуть внутрь самого себя, отвернувшись от бытия, которое, как известно, определяет сознание, уже само по себе есть уголовно наказуемое деяние.
«Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях, то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый, его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно. Большие реки в тайге надо было часто переходить вброд или сплавляться на лодках. Но была неслыханная рыбалка всегда и охота, обычно голодно не было. Хотя бывали периоды, когда по целым неделям приходилось есть тушенку. Холодно бывало часто», – так отзывались о Бродском его друзья по геологическим партиям.
Впрочем, о его умении быть в коллективе «как все», ничем не выделяясь (причем это могли быть рабочие-фрезеровщики с «Арсенала» и шпана с Обводного канала, санитары областной больницы и геологи с университетским образованием), речь уже шла выше. Вероятно, в этой склонности к социальной адаптации (мимикрии) таился пристальный наблюдатель за жизнью и за людьми. Причем наблюдение это носило в большей степени компаративный характер, и он соотносил собственное поведение и собственную персону с обстоятельствами и персонажами, в которые попадал и с которым оказывался рядом в силу объективных причин. При этом частая смена декораций и лиц не требовала обязательного погружения в данную конкретную ситуацию или выстраивания длительных взаимоотношений с кем-либо, что называется, без остатка, она (смена-поиск) позволяла преодолевать пространство и время по касательной, напитывая воображение только теми красками и полутонами, место которым в творческой палитре художника было забронировано заранее.
Таким образом, видение этого бытования носило в определенном смысле отстраненный характер, потому что, как замечал сам Иосиф, стоя на берегу Невы летом 1962 года, «никому на набережной такая мысль в голову не приходит». Например, мысль о том, что Время можно опередить или даже остановить, мысль о том, что Пространство подобно огромному киту, в чреве которого томится пророк Иона, или левиафану, напоминающему русского писателя, журналиста и вице-губернатора М. Е. Салтыкова-Щедрина.
И вот Михаил Евграфович чревовещает как пишет: «Человеческая жизнь – сновидение, говорят философы-спиритуалисты, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история – тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно, они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.».
Что же в таком случае можно отнести к яви?
На этот вопрос Иосиф для себя отвечает – только язык, потому что он компрометирует время и пространство, жизнь и смерть. Более того, речь в данном случае может идти только о поэзии, потому что именно она является высшей формой существования языка. По мысли Бродского, «в идеале – это отрицание языком своей массы и законов тяготения, устремление языка вверх, к тому началу, в котором было Слово». Поэт, следовательно, присваивает себе функции Творца, что с недосягаемых вершин наблюдает за людским столпотворением (муравейником?), за наивной попыткой созданных по образу и подобию Божию обрести славу, богатства, любовь, отечество, место последнего упокоения, наконец.
Можно предположить, что каждое возвращение в Ленинград было своеобразным переходом из одного языкового состояния в другое, когда впечатления от увиденного в Сибири, Средней Азии и на Русском Севере спрессовывались до объема полутора комнат, теснились, искали выхода и не находили его до поры.
До 1959 года.
На вопрос Евгения Рейна, с чего начался Бродский-поэт, спустя годы Иосиф ответит ему: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нем я надыбал Баратынского – издание “Библиотека поэта”. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере я очень завелся, так что Евгений Абрамыч как бы во всем виноват».
Из стихотворения Е.А. Баратынского «Последняя смерть» от 1827 года:
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье:
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он.
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.
Сохранилась фотографическая карточка, снятая в 1959 году Яковом Гординым в якутском аэропорту.
Иосиф стоит на вымощенной плиткой площадке.
За спиной – покосившаяся ограда, белая урна и летное поле, на котором стоит «Ил-14».
Снимок не контрастный, следовательно, пасмурная погода, вполне напоминающая ленинградскую.
Читаем в книге переводчицы, кандидата геолого-минералогических наук Людмилы Яковлевны Штерн «Поэт без пьедестала. Воспоминания об Иосифе Бродском» следующие строки: «У меня есть маленькая память об Иосифе “якутского” периода. За два дня до своего отъезда в эмиграцию, он подарил нам с Витей свою фотографию, сделанную летом 1959 года на якутском аэродроме. Стоит, расставив ноги, руки в карманах, на фоне летного поля с взлетающим (а может, садящимся) самолетом. На обороте надпись: “Аэропорт, где больше мне не приземлиться. Не горюйте”»… Итак, «геологический период» Бродского продолжался приблизительно с 1957 по 1961 год.
Впрочем, и в последующие годы мне несколько раз удавалось нанять его в качестве “консультанта” в институт Ленгипроводхоз, в котором я работала инженером-гидрогеологом после окончания Горного института. Заработок консультанта был мизерный, но все же лучше, чем никакого. Помню нашу совместную работу над проектом “Состояние оросительно-осушительных каналов Северо-западных регионов РСФСР”. Мы мотались по Ленинградской области, обследуя километры каналов на предмет устойчивости их откосов. Состояние этих каналов было плачевным. Не лучше выглядели и откосы. Они обваливались, оплывали, осыпались, зарастали какой-то дрянью. Я их описывала, Иосиф фотографировал. Фотографом он был классным, вероятно, унаследовав отцовский талант. К тому же Александр Иванович разрешил пользоваться его профессиональной аппаратурой. Во всяком случае, при защите моего отчета были особо отмечены “фотографии, блестяще подтверждающие описательную часть проекта”. Возможно, что эти отчеты с Осиными фотографиями до сих пор пылятся в архивах Ленгипроводхоза.
У нас даже возникла шальная идея заработать копейку-другую, написав сценарий для научно-популярного фильма об устойчивости оросительных каналов. Бродский придумал эффектное название: “Катастрофы не будет”. Имелось в виду, что обвалившиеся откосы никого под собой “не погребут”. Мы написали заявку, и друзья устроили нам встречу с директором “научпопа”, то есть студии научно-популярных фильмов. Он при нас пробежал глазами заявку и сказал: “Это может пойти при одном условии: расцветите сценарий находками”. Мы обещали расцветить и раскланялись, но на другой день идея сценария завяла из-за чудовищной скуки тематики…
Со времен юности Иосиф обладал еще одним редким даром – способностью абстрагироваться от реальной действительности. В такие минуты он был целиком погружен в свои мысли, не заботясь ни о реакции собеседника, ни о его интеллектуальных возможностях. Возможно, именно эти свойства помешали ему сделать блестящую геологическую карьеру».
Конечно, «Баратынский» из Якутска таков – слышит только себя, воспринимает реальность как сон (так говорят «философы-спиритуалисты»), целиком погружен в свои мысли.
Известно, что на следующий год Иосиф вновь отправился в экспедицию в Якутию (о его проблемах со здоровьем – сердце – тут знали и особо не нагружали молодого экспедиционера), однако неожиданно для всех в середине сезона он уехал в Ленинград, объясняя впоследствии свой поступок тем, что его «заели комары», а также несовпадением взглядов на жизнь с начальником партии.
Впрочем, это было и понятно.
Этап накопления впечатлений и жизненного опыта в том виде, каким его находил Бродский, закончился. Было уже бессмысленно играть роль рабочего-геолога-санитара-истопника-сторожа (и так далее), потому что поиск (о котором Иосиф писал Норе Ларионовой в 1958 году) привел к обретению искомого – он будет поэтом и путем отрицания законов тяготения (социальных в том числе) устремит язык вверх, «к тому началу, в котором было Слово».
Так наступило время настоящего умственного и душевного напряжения, когда все, не имевшее прямого отношения к творчеству, к литературе, не имело ровным счетом никакого значения.
В этом смысле вновь интересно привести еще один эпизод из книги Людмилы Штерн: «Бродский попросил меня устроить его в геологическую экспедицию. Я поговорила со своим шефом, унылым мужчиной по имени Иван Егорович Богун, и он пожелал лично побеседовать с будущим сотрудником.
Я позвонила Иосифу: “Приходи завтра на смотрины. Приоденься, побрейся и прояви геологический энтузиазм”.
Бродский явился, обросший трехдневной рыжей щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках…
Итак, Иосиф, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой “Прима”.
Богун поморщился и помахал перед носом ладонью, разгоняя зловонный дым, но этого намека Иосиф не заметил. И тут произошел между ними такой примерно разговор:
– Ваша приятельница утверждает, что вы увлечены геологией, рветесь в поле и будете незаменимым работником – любезно сказал Иван Егорыч.
– Могу себе представить, – пробормотал Бродский и залился румянцем.
– В этом году у нас три экспедиции – Кольский, Магадан и Средняя Азия. Куда бы вы предпочли ехать?
– Не имеет значения, – хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок.
– Вот как! А что вам больше нравится – картирование или поиски и разведка полезных ископа…
– Абсолютно без разницы, – перебил Бродский, – лишь бы вон отсюда.
– Может, гамма-каротаж? – не сдавался начальник.
– Хоть гамма, хоть дельта, один черт! – парировал Бродский.
Богун нахмурился и поджал губы.
– И все же… Какая область геологической деятельности вас особенно привлекает?
– Геологической? – переспросил Иосиф и хихикнул.
Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся и заерзал в кресле.
– Позвольте спросить, – ледяным голосом отчеканил Иван Егорыч, – а что-нибудь вообще вас в жизни интересует?
– Разумеется, – оживился Иосиф, – очень даже! Больше всего на свете меня интересует метафизическая сущность поэзии…
У Богуна брови вместе с глазами полезли на лоб, но рассеянный Бродский не следил за мимикой собеседника.
– Понимаете, – продолжал он, – поэзия – это высшая форма существования языка…
Наконец-то предмет беседы заинтересовал Иосифа Бродского. Он уселся поудобнее, заложил ногу за ногу, снова вытащил “Приму”, чиркнул спичкой и с удовольствием затянулся.
– Видите ли, – доверительно продолжал Иосиф, будто делился сокровенным, – все эти терцины, секстины, децины – всего лишь многократно повторяемая разработка последовавшего за начальным Словом эха. Они только кажутся искусственной формой организации поэтической речи… Я понятно объясняю?
Ошеломленный Иван Егорыч не поддержал беседы. Он втянул голову в плечи и затравленно смотрел на поэта. Иосиф тем временем разливался вечерним соловьем:
– Я начал всерьез заниматься латынью. Меня очень интересуют различные жанры латинской поэзии. Помните короткие поэмы Катулла? Он очень часто писал ямбом… – Иосиф на секунду задумался. – Я сейчас приведу вам пример…».
Бродский резко встает с кресла и начинает ходить по кабинету Ивана Егоровича Богуна, он размахивает руками и декламирует:
По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом в ту ли глушь
фригийских лесов.
В те ли дебри рощ дремучих, ко святым богини местам.
Подстрекаем буйной страстью, накатившей
яростью пьян,
убелил он острым камнем молодое тело свое.
И, себя почуяв легким, ощутив безмужнюю плоть,
Окропляя теплой кровью кремнистый выжженный луг,
Он взмахнул в руке девичьей полнозвучный,
гулкий тимпан.
Это – твой тимпан, Кивева, твой святой,
о матерь, тимпан!…
Останавливается, замолкает на какое-то мгновение, словно складывает вновь уже сложенные Катуллом строки, и продолжает в полной ажитации:
Брат, через много племен, через много морей переехав,
Прибыл я скорбный свершить поминовенья обряд,
Этим последним тебя одарить приношением смерти
И безответно, увы, к праху немому воззвать,
Раз уж тебя самого судьба похитила злая —
Бедный, коль на беду отнят ты был у меня!
Ныне же, как нам отцов завещан древний обычай,
Скорбный обряд совершу, – вот на могилу дары;
Пали росою на них изобильные братнины слезы.
Их ты прими – и навек, брат мой, привет и прости!
Иван Егорович в ужасе смотрит на неистового стихотворца, и, когда Бродский покидает его кабинет, энергично крутит ему вслед пальцем у виска, потому что так и не понял, кто сейчас перед ним был – клоун или поэт, высоколобый интеллектуал или отпетый мошенник, трезвый или пьяный, больной или здоровый.
А Иосифу неважно, что о нем думает Богун или кто-либо другой, потому что он идет по Невскому, улыбается своим мыслям, размышляет о ямбической силе Катулла, о том, как он виртуозно применил гармонию греческих лирических размеров к латинскому языку, как наполнил эмоциональным эротическим звучанием любовные послания к прекрасной Лесбии и юному Ювенцию.
За этими размышлениями он не замечает, как оказывается перед входом в Дом книги.
Останавливается.
Сам себя вопрошает:
– Зайти что ли?
И отвечает:
– Можно.
Иосиф поднимается по парадной лестнице на второй этаж, где продаются книги по искусству: «Античная коллекция Эрмитажа», «Военная галерея 1812 года Джорджа Доу», «Передвижники», «Советская изобразительная Лениниана», «Скульптор Вучетич», «Ленинград в изобразительном искусстве», «Современная советская графика».
Сам не зная почему, он берет с полки именно последнюю, перелистывает ее, всматривается в изображения мускулистых рабочих с закатанными рукавами, колхозниц с огромными бюстами, щекастых детей, космонавтов, напоминающих роботов из школьных конструкторов, большевиков и революционных матросов.
– Будете брать?
Иосиф вздрагивает, как-то суетливо, словно его застали за разглядыванием чего-то непристойного, поднимает глаза и натыкается на оловянного отлива недовольный взгляд продавшицы.
– Нет.
– Ну и поставьте тогда на место!
Иосиф возвращает книгу на полку и выходит на Невский.
Здесь закуривает и думает о том, что все дороги в этом городе ведут к Неве.
С другой стороны, на Невском проспекте едва ли какая-либо другая мысль, касающаяся местной планировки, может прийти в голову.
А на противоположном берегу реки расположены Биржа – Центральный военно-морской музей, Пушкинский Дом, Кунсткамера, университет, Академия художеств. С этой частью города у Бродского тоже были связаны свои воспоминания.
Воспоминание первое
«Ранними вечерами после уроков я пробирался через город к реке, пересекал Дворцовый мост, с тем чтобы забежать в музей за отцом и вместе с ним пешком вернуться домой. Лучше всего бывало, когда он по вечерам оказывался дежурным и музей был уже закрыт. Он появлялся в длинном мраморном коридоре во всем великолепии, с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и парабеллумом в кобуре, болтающимся на ремне на правом боку; морская фуражка с лакированным козырьком и позолоченным “салатом” скрывала его безнадежно лысую голову. “Здравия желаю, капитан”, – говорил я, ибо таков был его чин; он усмехался в ответ и, поскольку дежурство его продолжалось еще около часа, отпускал меня шляться по музею в одиночестве».
Воспоминание второе
«У меня произошла некая фиксация на университете. Я ходил туда вольнослушателем на разные лекции, но это тоже недолго продолжалось. Помню, пошел на лекцию такого человека по фамилии Деркач, который преподавал советскую литературу, и категории, которые он там употреблял – типа “упадочная литература” и т. п. – вывели меня из себя, и я перестал там появляться. Но тем не менее я познакомился с массой людей… Но это было недолго, продолжалось примерно с полгода. И вообще мне больше всего нравился исторический факультет… Впрочем, я думаю, что у меня была некая аллергия, потому что когда я видел какие-то обязательные дисциплины – марксизм-ленинизм, так это кажется называется, – как-то пропадало желание приобщаться… Но все-таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было. Надолго у меня сохранился этот комплекс».
Воспоминание третье
«У меня были два знакомых художника, у которых была мастерская в совершенно замечательном месте, около Академии художеств. Художники были посредственные, хотя талантливые по-своему, прикладники. Довольно забавные собеседники, ужасно остроумные. И у них время от времени собиралась богема, или то, что полагало себя богемой. Лежали на коврах и шкурах. Выпивали. Появлялись какие-то девицы. Потому что художники – они чем привлекательны? У них же натурщицы есть, да? По стандартной табели о рангах – натурщица, она как бы лучше, чем простая смертная. Не говоря уже о чисто порнографическом аспекте всего этого дела…
В основном шли разговоры, окрашенные эротикой. Такое легкое веселье или, скорее, комикование. И трагедии, конечно же: все эти мучительные эмоции по поводу того, кто с кем уходит. Поскольку раскладка была, как всегда, совершенно не та. В общем, такой нормальный спектакль. Были люди, которые приходили на это просто посмотреть, они были зрители. А были актеры. Я, например, был актером…».
Воспоминание четвертое
«И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой.
Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать».
Моллюск – Nautilus pompilius – кораблик обыкновенный.
Вместе с рыбами моллюск плывет на глубине.
Впрочем, все относительно – это Nautilus pompilius стоит на месте, а мимо него или даже сквозь него проходит вода.
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Истошно воя, буксир «Флягин» (типа БОР) прошел наконец под Володарским мостом и вдоль Обуховской обороны продолжил движение в сторону Усть-Ижоры. А его надрывный гудок еще долго тянулся над Невой и затихал только, когда захлопывалась дверь в парадной дома на углу Пестеля и Литейного.
Как правило, Александр Иванович оставался очень доволен прогулками со своим сыном по ленинградским улицам, скверам и набережным. Он шутил, пересказывал супруге забавные эпизоды, имевшие место во время прогулки, цитировал смешные фразы Иосифа и похлопывал его по плечу.
Снимал фуражку и протирал ладонью блестящий от пота лоб.
Иосиф Александрович любил повторять: «Отец, например, не был ни членом партии, всего этого “добра” он не терпел, просто не выносил… и еще он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался, всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать генетический момент, кровный. У Баратынского есть совершенно феноменальное стихотворение… “Запустение”, где он говорит об отце:
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу».
В родительской комнате над столом уже включена люстра, и потому резкие тени от высоких спинок стульев перегораживают пространство зубчатым частоколом, напоминающим сооружения на площади Сан-Марко с полотен Каналетто.







