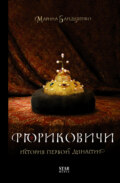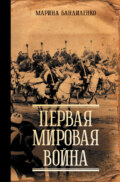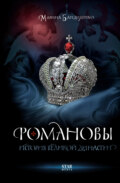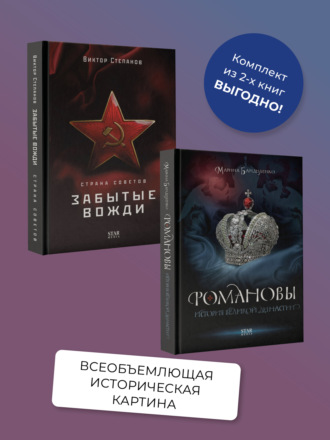
Марина Бандиленко
Романовы. История великой династии, Страна Советов. Забытые вожди. Комплект из 2 книг
Пётр I Алексеевич
Пётр был младшим сыном царя Алексея Михайловича и последним в очереди на престол. Когда ему было 4 года, умер отец, на престол взошел старший брат Фёдор.
В 10 лет, после смерти Фёдора, Пётр вместе с братом Иоанном был венчан на царство. И тогда же, во время стрелецкого бунта, впервые столкнулся с разъяренной толпой. С тех пор на всю жизнь у него остались судороги и нервный тик – следы ужаса, который он пережил, стоя на забрызганном кровью крыльце. Разве знал тогда кто-нибудь, что этот испуганный мальчишка вскоре разрушит старую страну, чтобы на ее руинах построить новую?
В конце XVII века Россия занимала территорию от Архангельска до Каспия и от Левобережной Украины до Тихого океана. Население составляло 10,5 миллиона человек. Экономическая стабильность, которой добились первые Романовы, к концу века сменилась стагнацией, или застоем. Почти не имелось крупных промышленных предприятий, внешняя торговля не развивалась из-за отсутствия выхода к Черному и Балтийскому морям. Флота не было – ни торгового, ни военного, сухопутная армия, которая хорошо себя показывала в противостоянии с прежними противниками России – турками, татарами и поляками, была малоэффективна против нового противника – регулярных западноевропейских армий. В это же время в глазах иностранных дипломатов Россия была отсталой азиатской страной, которая не могла принимать участие в европейской политике. Царь Феодор и вслед за ним царевна Софья пытались провести модернизацию российской жизни, но им не хватило ни времени, ни сил.
Отстраненный царевной Софьей от власти, Пётр вместе c матерью, царицей Натальей, перебрался в подмосковную усадьбу Преображенское.
Когда царю исполнилось 11 лет, для его забавы в селе Преображенском было набрано Потешное войско. Солдатами стали сверстники Петра – сыновья дворцовой прислуги и окрестных крестьян. Царская забава быстро переросла обычную игру. 14-летний Пётр затребовал для Потешного войска 16 чугунных пушек. В качестве учителей в Немецкой слободе были наняты артиллерист Теодор Зоммер и опытный военный Патрик Гордон. Потешное войско уверенно превращалось в личную гвардию царя Петра.
В это же время юный царь начала осваивать азы флотоводства. На Плещеевом озере близ Переяславля была создана потешная верфь.
Царь Пётр резко выделялся среди окружающих. Его рост составлял 204 сантиметра – почти на полметра больше среднего мужского роста того времени. Телосложение непропорциональное: длинные руки с крупными кистями, маленькая ступня 38-го размера, узкие плечи – 48 сантиметров, маленькая голова. Черты лица правильные, но в моменты сильного волнения искажались судорогой – нервный тик, последствие детских потрясений.
С самого детства Пётр отличался невероятной энергией. Сейчас бы ему поставили диагноз «гиперактивность». Ему было трудно долго усидеть на одном месте, к тому же его лишили хороших учителей, которые были у его старших братьев. Поэтому Пётр не закончил даже традиционный для русского царевича курс образования и всю жизнь писал с грамматическими ошибками. Читая письма неугомонного сына, присланные с Плещеева озера, царица Наталья Кирилловна и плакала, и смеялась:
«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей моей матушьке гасударыни царице и великой княгине Наталии Кириловьне, сынишька твой, в работе пребывающей, Петрушька. У нас молитвами твоими здорово все. Озеро вскрылось, и суды все, кроме большого коробля в одделке. Только за канатами станет, и о том милости прошу, чтопъ те канаты по семисот сажен исъ Пушкарского приказу не мешкоф присланы были; а за ними дело станет, и житье наше продолжитца. По семъ паки благословения прошу».
С малых лет Пётр проявлял интерес ко всему, что связано с ручным ремесленным трудом. Уже к 18 годам он в совершенстве знал 14 ремесел. Изучал военное дело, фортификацию и кораблестроение, учил немецкий и голландский – в живом общении с жителями Немецкой слободы.
Немецкая, или Кукуйская, слобода возникла еще в середине XVII века, когда Алексей Михайлович велел выселить всех иностранцев, не принявших православную веру, за пределы города. Располагалась на правом берегу Яузы, возле ручья Кукуй. Имела собственную инфраструктуру и управление. Население – европейцы разных национальностей, приехавшие в Россию работать по найму, – военные, врачи, ремесленники.
Немецкая слобода была совсем рядом с Преображенским – прямо за рекой. Пётр ежедневно видел шпили лютеранской кирхи и слышал звуки чужой заманчивой жизни. И когда, не совладав с любопытством, он решился посетить слободу, там его уже ждали.
Швейцарец Франц Лефорт, храбрый офицер, красавец и силач, когда-то нанимался на русскую службу как военный, но основным его занятием была светская жизнь. Он превратил в профессию то, что сейчас называют «тусовщик», и в этом качестве оказался очень нужен молодому русскому царю. Именно Лефорт представил Петру дочь местного кабатчика Анну Монс, которая станет царской фавориткой, и отдал ему своего расторопного камердинера Алексашку Меншикова, будущего друга и сподвижника Петра во всех его начинаниях.
17-летний Пётр зачастил на Кукуй, начал говорить по-немецки, научился танцевать с дамами, пить вино и курить трубку. Все это сильно беспокоило его мать, царицу Наталью Кирилловну. Решено было Петра женить, чтобы остепенился. В невесты ему выбрали 19-летнюю Евдокию Лопухину – идеал старомосковской девицы: статная, красивая, спокойная и очень набожная. Но не прошло и двух месяцев после свадьбы, как новоиспеченный муж уехал на Плещеево озеро, к своей новой корабельной потехе.
Пётр требовал, чтобы его называли не «государь», а «господин бомбардир». Слушался во всем голландского корабела Картена Брандта. Своими руками смолил и конопатил старый ботик, который разыскал среди рухляди в измайловском сарае:
«Гуляя по амбарам, увидел я судно иностранное, спросил Франца, – что за судно? Он сказал, что то – бот аглинской, и ходит он на парусах не только что по ветру, но и против ветру; которое слово меня в великое удивление привело и неимоверно».
Тем временем в Москве готовился переворот: Софья пыталась удержать власть, ее доверенные подбивали стрельцов убить Петра. Охрану Преображенского усилили. Пётр находился в крайнем напряжении. И когда душной августовской ночью в Преображенское явились стрелецкие гонцы предупредить царя о покушении, у Петра не выдержали нервы.
Царь выбежал на двор в одной рубахе. Вскочил на коня и один, без сопровождающих, ускакал в кромешную темноту.
Наутро выяснилось: государь ушел под защиту Троице-Сергиева монастыря и велит туда же быть немедля всей своей семье, и двору, и Потешному войску. Вскоре к Петру стали перебираться из Москвы бояре, приказные и войска. К середине сентября все было кончено. Софью заперли в Новодевичьем монастыре, а власть перешла к Петру. И первым серьезным делом молодого государя стал военный поход.
На тот момент Россия вместе с Австрией и Польшей входила в антитурецкую лигу, так называемый Священный союз, и по договору, подписанному еще при Софье, была обязана воевать с Османской империей. Но если Софья отправляла войско против вассалов Османской империи – крымских татар, то Пётр постановил: воевать сразу с турками, то есть идти на Азов – турецкую крепость в устье Дона, которая перекрывала выход в Азовское море. Таким образом он намеревался решить сразу две задачи: выполнить условия договора и прорубить России выход к морю.
Впервые русская армия двигалась не посуху, а по рекам – Волге и Дону, на специально построенных речных судах. Пётр официально был в этом походе «главным бомбардиром», то есть носил чин старшего артиллерийского офицера. Поначалу Азовский поход казался царю продолжением военных потех. Но две попытки штурма провалились. Пётр велел возвращаться. Его первая настоящая война началась с поражения. Царь забросил потехи и попойки. Из-под Азова сразу отправился на Воронежскую верфь. Всю зиму в верховьях Дона близ Воронежа строился галерный флот.
На работы сгоняли крестьян из окрестных деревень, кто пытался бежать, ловили и тут же вешали. Корабли делались наспех, из плохо просушенного леса. От непосильной работы, холода и болезней работники умирали сотнями. Наемные мастера-иностранцы не понимали, как можно строить корабли и в мороз, и в дождь, под открытым небом. Но к весне 1696 года первый русский флот – 2 больших военных корабля, 23 галеры и 1500 малых судов – отправился вниз по реке Дон к Азовскому морю.
Корабли отрезали крепость Азов со стороны бухты от источников снабжения. Осада на суше сопровождалась плотным артиллерийским огнем. Через месяц крепость сдалась. Россия получила выход к Азовскому морю.
В Москву Пётр вернулся победителем.
Однако для продолжения войны с Османской империей нужны были союзники. И Пётр изобрел невероятный, еще невиданный в европейской истории дипломатический ход: в сопровождении Великого посольства – настоящих дипломатов и вельмож, под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова за границу отправился лично государь Пётр Алексеевич. На Москве вместо царя остался боярин Ромодановский. Ему был присвоен титул «князь-кесарь», поручена опека за царской семьей – царицей Евдокией и шестилетним царевичем Алексеем и официально передана вся полнота власти.
Все были потрясены, но никто не посмел возразить или хотя бы удивиться вслух. И только спустя много лет механик Андрей Нартов, который учил Петра токарному делу, напишет в своих мемуарах:
«Слыхал ли кто или читал ли кто в каких-либо преданиях, чтоб какой самодержец при вступлении своем на престол, оставя корону, скипетр и поруча правление царства ближним вельможам, предпринимал странствование по чужим государствам? Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный!»
Государь наконец увидел своими глазами тот мир, о котором мечтал с юности. Европа потрясла его. Правда, в картинных галереях и на концертах он откровенно зевал и томился. Но то, что касалось естественных наук, техники, морского дела, промышленности, – все это вызывало у него восхищение и живейший интерес. Он все хотел попробовать своими руками.
В Голландии «урядник Пётр Михайлов» нанялся на судостроительную верфь плотником, чтобы лично пройти все стадии строительства корабля. То же повторилось и в Англии. Иностранцы не знали, что и думать об этом странном юноше – царе московитов. Ему необходимо было везде быть, все попробовать, все вызнать, всему научиться самому и научить своих людей. Его интересовало, как ловят китов, как лечат больных, как делают бумагу… Пётр учился у артиллерийского мастера, посещал Анатомический театр Рюйша… Уговаривал разных мастеров ехать в Россию – и многих уговорил.
Но выполнить основную задачу Великого посольства – найти союзников для войны с Турцией – никак не удавалось. Вся Европа готовилась к борьбе за передел сфер влияния, которая должна была начаться после смерти бездетного испанского короля, и помощь молодому русскому царю варваров в планы великих держав не входила. В Вене Пётр получил дурные вести из России: там взбунтовались стрельцы.
Мятежные полки шли из Великих Лук на Москву, при себе несли грамоту:
«Идти к Москве! Немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело. Непременно идти к Москве, хотя б умереть, а один предел учинить. Государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев».
Пётр, оставив волонтеров доучиваться в Европе, спешно поехал домой. Но по дороге он успел встретиться с польским королем Августом Великолепным. Первый красавец Европы, авантюрист и любитель развлечений, Август предложил Петру тайный союз, но не против Турции, а против Швеции. И Пётр согласился. Вступая в войну со Швецией, Россия могла бы вернуть свои древние новгородские земли на Балтике. Речь шла о восточном побережье Финского залива. Выход к Балтийскому морю означал выход в Европу.
Но прежде чем начинать войну, необходимо было навести порядок у себя в стране. Преодолев за четыре недели триста миль, Пётр прибыл в Москву. К тому времени князь-кесарь Ромодановский уже подавил бунт и проводил розыск.
Пётр сам участвовал в допросах и пытках. Была организована массовая публичная казнь: на Красной площади отрубили головы 800 стрельцам и еще несколько сотен повесили на кремлевских стенах. Пётр своими руками отрубил головы пятерым мятежникам. При казни присутствовали бояре и иностранные дипломаты.
Сразу после стрелецких казней Пётр принялся перекраивать жизнь. Нелюбимую жену Евдокию насильно отправил в монастырь, 8-летнего сына Алексея передал на воспитание своей сестре Наталье. Стал открыто жить со своей любовницей Анной Монс, которую прозвали «Кукуйской царицей». Патриархальная Москва была потрясена такой безнравственностью, но Петра не интересовало ничье мнение. Он был твердо намерен изменить жизнь своих подданных, независимо от их желания.