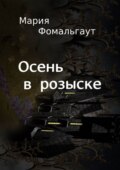Мария Фомальгаут
Клюв/ч
Таверна для…
Город, запутанный сам в себе.
Улицы, ведущие одновременно вверх и вниз.
Дома, непонятно как держащиеся друг на друге вопреки всем законам гравитации.
Река, которая течет, как мне кажется, вверх.
Надкушенная луна, опрокинутая в реке.
Думаю, куда мне идти, и вообще какого черта я здесь делаю…
– …дохлый номер, – старый городок сочувственно смотрит на меня, – ишь, чего выдумали! Нет, это же надо же было додуматься… таверну… в нашем городе… таверну…
Смеется сухим шелестящим смехом, будто рассыпаются осенние листья.
Не выдерживаю:
– А… а что не так?
– Он еще спрашивает! Серьезно? Таверну? Да вы сами-то посмотрите…
Смотрю сам на ласковое сияние таверны, приютившейся на вымощенной площади, таверна манит огоньками фонариков, запахами чего-то запеченного в чем-то, чего-то мясного, сладкого, пряного, все вперемешку, хочется все, и сразу.
– Ну вот… кивает городок, – а вы… таверну…
Оторопело смотрю на объявление, которое привело меня сюда, какого черта в самом-то деле, – Требуется хозяин таверны…
– …ну, понимаете, таверны, как таковой, еще нет… – голос в трубке какой-то непривычный, пугающий.
– В смысле… нет?
– В смысле, вам все с нуля придется делать. Искать заброшенное здание, у нас в городке много их, ремонтировать там все, делать кухню, зал, развешивать фонарики, резать луну на тонкие ломтики, мазать на тосты, печь сентябри в последних лучах лета, набросать нот, чтобы приманить скрипки, пусть играют себе… справитесь?
Понимаю, что отступать некуда:
– Справлюсь.
– И вот еще… – продолжает все тот же женский голос, – вы там диванчики поставьте, чтобы уютно было… хорошо?
Киваю кому-то невидимому и неведомому:
– Обязательно.
Таверна…
– …да не нужна нам никакая еще одна таверна, понимаете вы? – добавляет городок.
– Понимаю.
Проклинаю кого-то, кто сыграл со мной дурацкую шутку, проклинаю самого себя, что повелся на этот идиотский розыгрыш, ну что поделать, ну не у всех есть мозги, не у всех…
– Да вы останьтесь, переночуйте… у нас при таверне гостиница есть, мы гостям всегда рады…
– А вы все-таки решили… – городок презрительно смотрит на меня, как я зажигаю фонарики в маленьком домике, который так долго доводил до ума, перестилал крышу, конопатил стены, подбирал причудливый флюгер в виде черного кота на метле, долго думал, убрать плющ со стен или оставить, решил оставить стены, увитые плющом…
Светятся чайно-янтарные фонарики, порхают скрипки, зовут в таверну на запахи рагу из ранней осени и жаркого из полуночи.
Прохожие презрительно косятся, не менее презрительно фыркают, расходятся по домам, еще бы, время позднее, пора уже домой, к теплым постелям, а этот в кои-то веки в это время открывает свою таверну, да кому она здесь вообще нужна…
Я жду.
Луна проваливается в чащу леса.
Когда городок стихает, в мою таверну приходит та единственная, которую я жду, ради которой я делал все это…
– Доброй ночи.
– Доброй. Как насчет запеченной осени?
– Спасибо… не откажусь…
Устраивается поудобнее на диванчике, куда тут же слетается стайка скрипок.
– Отлично… чудесно у вас получилось…
– Да я и сам не ожидал, что так выйдет…
– А я в вас не сомневалась… не прогадала… – таверна сидит на диванчике, смотрит на меня, торжествующе улыбается, – иногда и таверне… в таверне посидеть хочется…

Тихоокеанский сыр
Нет, мне, конечно, грех жаловаться, мне еще повезло – всех сегодня будут вспоминать, а я и еще несколько человек пойдут в город, который не город, но это неважно.
– …подскажите, пожалуйста, как пройти на улицу Снов?
– Идите до перекрестка, потом направо до трамвайной линии и налево, – тараторит прохожий, – хорошего дня!
Кажется, я сделал что-то не так, кажется, надо было что-то уточнить, только я не пойму, что именно уточнить, пока не заблужусь в этом городке напрочь. Спохватываюсь, в какую сторону мне идти до перекрестка, иду куда-то в никуда, утыкаюсь в кирпичную стену, иду назад, добираюсь-таки до трамвайных путей, поворачиваю налево, спохватываюсь, а что делать дальше. Щелкаю пальцами, показывая, что мне нужен очередной прохожий, из переулка выходит девушка, я спрашиваю про улицу снов, девушка бормочет на каком-то непонятном языке, из всей тарабарщины понимаю только, что она сама не местная, и сама тут ничего-ничего не знает. В какой-то момент уже собираюсь пойти за ней, помочь, но девушка уже исчезает в лабиринтах улиц. Вместо неё улицы выпускают рыжего увальня, он вразвалочку идет мимо меня, я снова спрашиваю:
– А где улица Снов, не подскажете?
– Чего-о?
Настораживаюсь, как бы он не достал нож, или что похуже.
– Где улица Снов, не знаете?
– Да вон, за углом.
– А-а, спасибо.
– Да не за что.
Уходит в сторону трамвайных путей, вваливается в подъехавший вагон. Ныряю в переулок, да что он мне врал, это же переулок, а не улица, нет, так и есть, улица Снов… высматриваю магазинчики, натыкаюсь на вывеску с котенком, спящим на месяце.
Звякает колокольчик, когда я вхожу.
– Здравствуйте, – чеканит продавец.
– Здравствуйте.
– Что-то подсказать?
Уже хочу ответить, что просто смотрю, тут же спохватываюсь:
– А… мне бы сон какой подобрать.
– Снотворное?
– Да нет, сон.
– Это… это как? – вся вежливость скатывается с продавца одним махом, – ты где видел, чтоб сны продавали?
– Так у вас же улица снов.
– А ведь точно, ё-моё… чёрт… а снов-то у нас нету.
– А завезут?
Продавец снова входит в роль:
– Да, я обязательно сделаю заявку, чтобы завезли.
Наконец-то смотрю на список покупок, часы с кукушкой, головку тихоокеанского сыра, колесо для велосипеда, шляпу с пером, чучело белки, таблетки от кашля. Терпеливо соображаю, где все это может быть, вижу прямо над собой часы, но без кукушки, не то…
…выбираюсь с улицы Снов, нагруженный непонятно чем, щелкаю пальцами, показываю, что хочу домой. Кто-то никто недоуменно показывает мне на трамвайную остановку. Я не согласен, я настаиваю, я хочу домой, ну пожалуйста-пожалуйста, ну что вам стоит. Они сдаются, из переулка выруливает такси, мне тактично напоминают, что у меня кончились деньги, еле-еле хватит на трамвай, но так уж и быть. Нет, я не согласен, я снова прошу – домой, домой, ну пожалуйста, ну последний раз. Дом появляется передо мной, резко, гневно, обиженно, подавись своим домом. Давлюсь домом, то есть, захожу в прихожую, раскладываю часы, колесо, шляпу, осторожно, чтобы не помять, чучело белки, черт, надо было упаковать…
Вечером нам устраивают разбор полетов, мне выговаривают, что вы сны просите, не продаются в магазинах сны. И учитесь, наконец, добираться домой, ну и что, что устали, люди устают, и домой едут, на трамвае, на такси, сами за руль садятся, да, уставшие, и ничего. Продавцу тоже выговаривают, что вы на клиента срываетесь, ну спросил про сны, ну ответили бы, это что, шутка такая… Достается и хозяину маленького кафе, как вы не понимаете, часы с кукушкой, они у вас для красоты висели, а не продавались, и вы тоже хороши, говорят работнику музея, чучела в музее не продаются, а за чучелом белки надо было в охотничий магазин идти… Киваем, запоминаем, повторяем как мантру, за хлебом в булочную или универсам, за чучелом белки в охотничий магазин…
– …вы не видели Китти?
поворачиваюсь, вопросительно смотрю на… да ни на что я не смотрю, никого и ничего нет, только пустота. Я так и не научился смотреть на пустоту, мне хочется сфокусировать свой взгляд хоть на чем-нибудь, но ничего нет.
– Э-э-э… Китти?
– Ну да, Китти.
– Да… вроде сегодня утром…
– Точно?
– Да… или нет, это Агиль была… не… не помню… слушайте, честное слово, не помню, где Китти, где Агиль…
Они смотрят на меня, как-то по-особенному смотрят, не нравится мне это смотрение – наконец, отступают, понимают, что я и правда не знаю, кого я видел сегодня утром и видел ли вообще кого-нибудь.
Спохватываюсь:
– А… а она что…
– …её нигде нет.
– Ну… где-нибудь да и есть…
Моя неуместная фраза повисает в воздухе, а что я такого сказал, правду же сказал, если тут Китти нет, то где-нибудь она и есть, как же иначе…
– …а ты Китти не видел?
Вздрагиваю, оборачиваюсь, вот ведь черт, Агиль, Агиль, если ты еще раз так ко мне подкрадешься, я… я… я не знаю, что я с тобой сделаю… ничего я с тобой не сделаю, они не позволят ничего сделать.
Хочу, наконец, вспомнить, когда я последний раз видел Китти – не вспоминаю, не хочу, отвечаю коротко, резко —
– Не видел.
Агиль не отстает, чувствую, не отвяжется…
– А говорят, будут наружу выводить… ненадолго… – не отстает Агиль, маленькая, юркая, шустрая, похожая на хомяка.
– Ага, очень рад.
– А ты пойдешь?
Передергиваю плечами, как будто у меня есть выбор, идти, не идти, как будто они будут спрашивать, хочу я или нет.
Они никогда не спрашивают.
Донг бросается на меня с ножом, делает выпад – я ставлю блок, я не даю его руке приблизиться ко мне, пытаюсь поставить подножку, – не получается, Донг толкает меня, швыряет на землю, прыгает на меня сверху, прежде чем я успеваю опомниться, лезвие прижимается к моему горлу.
Не сопротивляюсь. Как учили. Донг вытаскивает у меня из кармана бумажник, открывает, шарится в его пустоте.
– Не так, – поправляю, – ты сначала убежать должен был, потом уже в бумажнике шариться.
– А, точно, – кивает Донг.
Я вижу, ему все равно, правильно он сделал или неправильно.
– …назовите свои сильные стороны.
Я задумываюсь, вернее, делаю вид, что задумываюсь, – я знаю эти три слова наизусть:
– Креативность, целеустремленность, коммуникабельность.
– Хорошо, – Донг привстает из-за стола, пожимает мне руку, – вы приняты.
Что дальше, спрашиваю я себя, что дальше, спрашивает Донг. Спрашиваем у них, у тех – они не отвечают, кажется, они и сами не знают, что дальше.
Иногда нам кажется, что мы все делаем неправильно – но только кажется, мы не знаем, как надо. Я сажусь за столик, Донг замирает передо мной, полотенце через руку.
– Принесите мне мечту, – прошу я.
– Не, не так, – мотает головой Донг.
– А, да… Пожалуйста, принесите мне мечту. Будьте любезны, принесите мне мечту.
– Да нет… мечты не подают в кафе.
– Ну да, ничего, что кафе называется «Мечта»?
– А, ну да… гхм… А если кафе «Мечта», там мечты подают? – спрашивает Донг.
Спрашивает у них. Они не знают, они говорят, что да, наверное, так оно и есть. Донг уходит за стойку, выжидает для порядка, возвращается.
– Вот вам мечта о космических путешествиях, – говорит он.
Морщусь.
– Э-э-э… что-то не мое.
– Ну, уж, какая есть, ты ж не сказал, какую мечту.
– А, ну да, сейчас скажу…
Донг ждет:
– И?
– Сейчас, сейчас…
– Ну?
– Э-э-э… не знаю я.
– Ну а не знаешь, так бери.
– Не знаю. Но не это… не это…
Снова думаем, что мы что-то делаем не так, понять бы еще, что именно.
Вечером приходят туристы, хозяева показывают им нас. Мы не видим ни тех, ни других, мы только чувствуем бесконечные взгляды, направленные на нас отовсюду, мы не слышим, что они говорят, мы только догадываемся, все то же самое слово в слово, – контрабанда, спасенные, вернуть к привычной жизни… пожертвования… Туристы оставляют что-то для нас, кто-то спрашивает, а нельзя ли взять себе, кому-то отвечают, нельзя. Вспоминаю, когда я последний раз видел Китти, точно, вот в такой же вечер, Китти стояла перед пустотой, пустота протягивала Китти что-то блестящее, разноцветное, пахнущее клубникой…
– …а ты что с Китти сделал?
Донг смотрит на меня, вопросительно, пристально, насмешливо, это он умеет, так смотреть. Как будто знает про нас больше, чем мы сами про себя знаем. Вздрагиваю, как от удара, это новенькое что-то…
– С чего ты… с чего ты взял, что я…
– …ну, ты же все рвал и метал, когда она тебе от ворот поворот дала… все требовал, чтобы они тебе другую Китти дали, такую Китти, которая за тобой на край света пойдет…
– И что? И по этому поводу думаешь, я ей руки скрутил, в подвал затащил, там взаперти держу? Или за углом обухом по голове пристукнул, так, да?
– Да кто тебя знает…
– Ты что… убийцей меня считаешь?
– Кто тебя знает… – повторяет Донг.
Хочу разразиться гневной тирадой, что что он себе позволяет, и вообще, – тут же спохватываюсь, мое прошлое затыкает мне рот. Прошлое, которого я не знаю, прошлое, которого у меня будто бы и нет вовсе.
Моя жизнь началась, когда мне было двадцать пять – двадцать семь лет, это я хорошо помню, потому что те, которые меня нашли, сказали – лет двадцати пяти – двадцати семи. Еще сказали – азиат с примесью европейской крови. Еще говорили что-то, я не помню, дальше все было пугающим, непривычным, вместо крохотного пространства все такое просторное. И вода каждый день, а не раз в три дня, и еда тоже каждый день, а не по воскресеньям, а больше всего поразило, что в воде заставляют мыться, я не понимал, как можно лить на себя драгоценную воду, её же сберечь надо, чтобы пить, чтобы хватило на месяц, на два, на три, на год, на вечность. Мне там даже сначала не понравилось, потому что нельзя было запасать еду и воду, ага, врите больше, что дадите завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и всегда. И имя не дают, говорят, вы давайте вспоминайте свое, собственное, хоть кол им на голове теши, что не помню я никакое свое имя, не помню, хоть убейте, так что дайте хоть какое-нибудь. Очень нехотя дали имя – Тагир, мне не нравилось, оно было какое-то не мое, только я чувствовал, что если буду артачиться, отберут даже это имя. Потом был дом, и Донг, и Агиль, и Китти, и Целия, и еще много-много всех…
– …Ирма, а ты Китти не видела?
– А?
– Китти, говорю, не видела?
– А это кто?
Ирма смотрит на меня, глаза серые, бездонные, пустые. Ирма вся мыслями где-то там, там, в каких-то измерениях и мирах, которые показывают ей эти.
– Ну… такая… – пытаюсь объяснить, какая – такая, не нахожу ничего лучше, чем ляпнуть – ржет, как лошадь…
– А, вчера видела, мы с ней ужинали… все как-то уже спать разошлись, а мы с ней на кухне сидели…
– А сегодня?
Ирма недоуменно смотрит на меня:
– А сегодня мы еще не ужинали, рано еще.
– Нет, ну а Китти-то ты видела?
– А… нет, вроде…
Понимаю, что ничего от неё не добьюсь, что мы все друг от друга ничего не добьемся, а Китти как в воду канула. Смотрю на Ирму, почему-то мне кажется, что её не выгонят из дома, как всех нас, что она останется, потому что она понимает все эти измерения и пространства, а мы не понимаем, и не хотим понимать. Поэтому Ирма останется, а мы нет, нас отправят туда, знать бы еще, куда это самое – туда…
Китти.
Китти-Китти-Китти.
Спускаюсь в подвал, сам не знаю, зачем, может, просто для того, чтобы убедиться, что никакой Китти там нет, никто её не прячет взаперти, никто не положил туда её бездыханное тело. Думаю, что дверь заперта, – дверь почему-то поддается удивительно легко, пропускает меня в темные коридоры, толкаю множество дверей, одну, другую, третью, сам не знаю, зачем, жду в любой момент, что меня остановит резкий сигнал в голову, а сюда нельзя, а здесь служебное что-то там или что-то в этом роде. Ничего не происходит, меня никто не останавливает, толкаю очередную дверь, на меня падает Ирма, почему Ирма, что она здесь делает, почему она на ногах не держится, пьяная, что ли, да не может быть, чтобы Ирма, и пьяная, почему она холодная, закоченела совсем в подвале, растираю её руки, бормочу что-то вроде, а ты как тут вообще очутилась, а почему её руки мягкие, как тряпочки, почему, почему…
…черт.
Вспоминаю, как учили – ритмичные нажатия на грудную клетку, раз, два, три, смотрю на грудную клетку, понимаю, что никаких нажатий уже не понадобится, почему кровь не красная, а черная, или в сердце всегда бывает такая кровь, кто её знает…
Хочу броситься прочь из подвала, кричать во все горло, Ирму, Ирму убили – не успеваю, они уже услышали, они уже спешат сюда.
Они.
Снова пытаюсь понять, как я их чувствую – снова не понимаю. Не понимаю, почему они парализуют мою волю, почему ведут меня куда-то в никуда, закрываю где-то нигде… спохватываюсь, догадываюсь, ору в голос – это не я, это не я, не я её убил, я её только нашел – они не слышат, они не хотят слышать, они не верят, ни не хотят верить, они закрывают меня.
– Зачем вы это сделали?
Мотаю головой:
– Я этого не делал.
– Как вы объясните, что вас нашли в подвале рядом с телом Ирмы?
– Я… я искал Китти.
– В подвале?
– Ну… гхм… должна же она была где-то быть…
– Значит… вы что-то знаете про Китти?
– Да ничего я не знаю, я же…
Пытаюсь объяснить, что – я же, ничего не объясняется, понимаю, что мне не верят.
– Давайте его вспомним хорошенько, – предлагает Донг.
Меня коробит, я и сам не прочь хорошенько вспомнить себя, только я не хочу опять проходить в воспоминаниях это, темное, мерзкое, тесноту, холод, когда все мысли вертятся вокруг глотка воды…
Они тоже не хотят возвращать меня туда – но в который раз терпеливо объясняют, ну что вы хотите, иначе мы ничего не узнаем, ничего-ничего…
Из меня начинают выцарапывать память, – сначала небольно, слегка-слегка, а вчера я искал улицу Снов, а позавчера приходили туристы, Китти болтала с кем-то ни с кем, кто-то никто дарил ей что-то разноцветное, пахнущее клубникой. Я уже готовлюсь погрузиться в боль и страдания, – кто-то приотпускает меня, я выныриваю из памяти, отряхиваюсь, вопросительно смотрю в пустоту, пустота предлагает, а давайте спросим у Ирмы.
Не понимаю, не верю себе, как спросим у Ирмы, она же… не успеваю договорить, что она же, Ирма входит в холл, как ни в чем не бывало, устраивается в кресле, уже готовится забросать этих вопросами про эксцентриситеты и параллаксы, леминискаты и прецессии.
– Кто вас убил? – спрашивают они.
– А это Донг.
Я не вижу Донга, но буквально чувствую, как он бледнеет:
– Ложь!
– Да нет же, Донг…
– Бред полный, с чего мне её убивать было?
– С того, что я про него вспомнила… все про него вспомнила…
Жду, что ответит Донг, Донг ничего не отвечает, бросается прочь из комнаты, прочь из дома, на что надеется, спрашиваю я себя, когда его хватают эти, уводят, растерянного, не понимающего, хлопающего глазами, оставляют меня наедине с Ирмой, с Агиль… Агиль?
Агиль обнимает нас, глаза блестят, плачет, что ли, что она плачет, все живы-здоровы в конце-то концов, даже с Донгом ничего не случится, потому что… ну, потому, что здесь ни с кем ничего не случается.
– Ты… ты чего, а?
– А меня туда отпускают…
Все переворачивается внутри:
– Да ты что…
– Ага… сегодня… – глаза блестят, – а я все помню, да, здравствуйте, один билет до столицы, пожалуйста, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где здесь театр, здравствуйте, я по объявлению, вам нужны актрисы, а мои сильные стороны целеустремленность, креативность, коммуникабельность, здравствуйте, я хочу снять квартиру… – снова обнимает нас всех поочередно, крепко-крепко, – ну давайте, удачи всем, чтобы у вас тут все хорошо было…
Не могу понять, плачет она или смеется, или и то и другое вместе, повторяет снова и снова, как я счастлива, ой, как я счастлива, ой, как здорово-то… Подхватывает свой чемодан, порываюсь ей помочь, она отмахивается, да сама, сама, ну все, чмоки-чмоки, побежала я…
Замираем в каком-то неловком молчании, в воздухе повисает никем не сказанная фраза, что там на самом деле будет все намного сложнее, чем здесь, и вообще все по-другому, ну да ничего, Агиль молодец, Агиль справится, ну мы же не хотим, чтобы она не справилась, правда же?
Вечером приходит письмо от Китти, вот это совсем неожиданно – письмо от Китти, вот это совсем неожиданно – письмо от Китти, ой, девочки-мальчики, это я вам под большим-большим секретом, вы только не говорите никому, чтобы эти ничего не знали. А я у этого живу, ну, у этого этого, ну, который приходил сюда, помните, как турист… Ой, девочки-мальчики, у меня все зашибись вообще, у меня дом свой, и машина своя, мне хозяин тут дорогу устроил, как-то её саму на себя замкнул, я по ней езжу, здорово так, а прикиньте, я вот подвеску хочу, чтобы из белого золота с бриллиантами, а у меня кожа-то светлая, она на мне и не видна подвеска эта, обидно так… Только это я вам большой-большой секрет, никому-никому ни полсловечка…
…поздно, поздно, они уже почувствовали, они уже заметили, они уже хватают меня за горло, – к счастью, не в буквальном, а в переносном смысле – вытряхивают из моей памяти письмо, допытываются, что, как, где, злятся, – я это чувствую, злятся, рвут и мечут, бросается куда-то прочь из дома, я только догадываюсь – к туристам, которые забрали Китти.
Возвращается когда-то никогда, мне кажется – мгновение спустя, хотя для него могли пройти несколько дней или даже лет. Возвращается злющий как черт, обещает скандалить, или судиться, или еще там что-то такое, не пойми, что именно.
– А что-то Агиль не пишет… – говорит Ирма, и непонятно, то ли мне говорит, то ли самой себе.
Вспоминаю:
– А про неё говорили что-то… я толком не понял…
– Что говорили?
Отчаянно пытаюсь вспомнить, не могу:
– А коверные бомбардировки, это как?
– Ковро… – Ирма не договаривает, бледнеет, бросается туда, где эти (он не видит их, только чувствует), набрасывается на них с криком, да какого черта, да вы что творите-то вообще, да вы хоть башкой своей думайте, куда отправляете, да убить вас всех мало, да какая реальная жизнь, это, блин, реальная смерть, а не реальная жизнь, будьте вы прокляты…
Начинаю о чем-то догадываться, сам не понимаю, о чем. Выжидаю, когда Ирма успокоится, если она вообще успокоится, осторожно спрашиваю:
– А Агиль… чего?
– А… все хорошо у неё…
– А коверные…
– А, ну это она ковер себе купила… видишь, обживается потихоньку…
– А что не пишет?
– Ну, ты сам подумай, у неё там сьемки, выступления, когда ей писать-то…
– А, тоже верно…
Вечером нас опять вспоминают. Я не хочу вспоминаться, но не так не хочу, как обычно, потому что знаю, что будет тесно, душно, грязно, и вода раз в три дня, я не хочу из-за того, что будет там, дальше, я уже чувствую, что там будет что-то такое, о чем лучше не вспоминать, не знать, не думать, вообще никогда.
Меня заставляют, меня вспоминают – больно, сильно, безжалостно. Снова проваливаюсь в тесноту и духоту, меня снова везут куда-то в никуда, я даже не думаю о том, что меня везут, все мысли о воде, которая будет раз в три дня, и о еде, которая будет когда-нибудь, надо только подождать, знать бы еще, сколько времени прошло, а времени больше нет, время кончилось, умерло на экране телефона. У этого, который слева, было механическое время, но тот, который слева, умер, и механическое время умерло вместе с ним. Он его как-то оживлял, только я не знаю, как именно.
Я вспоминаю – нет, не я, меня вспоминают, бессильную злобу, беспомощную ярость, пустите, пустите, пустите, черт бы вас задрал, да как вы смеете меня удерживать, да вы кто такие вообще, да я, да вы… До ярости был страх, обжигающий, и в то же время леденящий, пустите-пустите-пустите, я ничего не сделал, я ни в чем не виноват… потом память проваливается куда-то в никуда, чтобы вынырнуть по ту сторону прошлого, чтобы вспомнить… вспомнить…
…вырываюсь из памяти, захлебываюсь, отплевываюсь, отбиваюсь от собственного прошлого, нет, нет, нет, не надо, пожалуйста, не хочу. Я не хочу помнить, что такое ковровые бомбардировки, а теперь помню, я не хочу помнить города, которые ночью с высоты казались живыми существами, ощеренными артериями магистралей, которые тут же гасли, как только я…
…нет, не хочу вспоминать.
Не хочу.
Не надо.
Пожалуйста, не надо…
– А ты… ты чего?
Смотрю на Ирму, куда она собралась со своим рюкзачком, наружу её, что ли, выпускают, надо бы с ней повторить, как покупки делать, как дорогу переходить, как…
– А я ухожу.
– Ты… ч-чего… совсем, что ли… туда?
– Ага.
Не понимаю, не верю, быть такого не может…
– Да ты чего там забыла-то вообще?
Смотрю на неё, не верю, не понимаю, быть не может, чтобы Ирму понесло туда, прочь от иных измерений и пространств.
– Ну, ты понимаешь… я должна всем рассказать…
Не договаривает – что рассказать, догадываюсь, так вот она что задумала, вот она что жадно вытягивала из них измерения, пространства, временные петли, какие-то заковыристые формулы, в которых я не понимал ни слова…
Хватаю Ирму за руку, ты чего, ты с ума рехнулась, никуда я тебя не отпущу, и не думай даже. Ирма понимает мой жест по-своему, улыбается, кивает, ну пошли вместе тогда, вместе веселее…
– Да нет, ты не поняла…
Пытаюсь объяснить ей, про города, которые сверху кажутся живыми, про ковровые, которые совсем не про ковер, про…
– …да знаю я. Знаю.
– А знаешь, так чего… жить надоело?
– Ну… я попробую… а если получится… а вдруг…
Даже не успеваю сказать, что ничегошеньки-ничего у неё не получится, – Ирма выскальзывает за дверь, бросаюсь за ней – за дверью уже никого нет, только пустошь, подернутая туманом, редкие деревца.
Вечером приходят те, я жду, что они будут вспоминать меня – они не вспоминают, они как будто вообще не помнят обо мне. Я спрашиваю про Ирму, – мне не отвечают, не так не отвечают, как когда не знают, а так не отвечают, как когда не хотят отвечать.
Утром я жду, кто на этот раз отправится туда, наружу, – не понимаю, почему никто, почему никого не отправляют, не увозят, почему ничего не происходит. Мы ждем, когда нас выведут в бутафорский город, будут учить, как найти нужную улицу, как сделать покупки, как устроиться на работу, знать бы еще, что за работа такая. Никто не ведет нас в бутафорский город, никто не учит пользоваться скидочными картами и банкоматами.
Где Ирма, спрашиваю я за обедом, почему она нам ничего не пишет.
Они молчат.
Вечером мне приходит письмо от Ирмы, целую, обнимаю, все хорошо, устроилась, а меня в научный институт взяли, я им там все рассказываю, а я уже квартиру себе сняла, с видом на лес, уже машину себе присматриваю, правда, в кредит, а на улице с одним парнем разговорилась, он меня в кино пригласил… Закрываю письмо, спрашиваю самого себя, кого они пытаются обмануть…