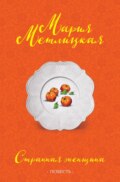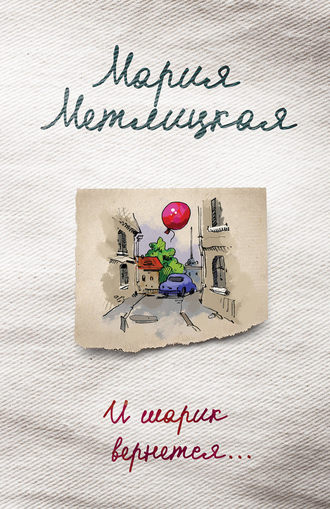
Мария Метлицкая
И шарик вернется…
Школа
Школа была старая, довоенная, из темно-красного кирпича, в три этажа. За ней находился роскошный вишневый сад. Когда к маю он расцветал, казалось, что деревья покрылись первым, легким и кружевным, снегом.
Спортивный и актовый залы находились на первом этаже. На втором – тесноватая столовая, куда на переменах до отказа набивались галдящие ученики. Там же, на втором этаже, учились первоклашки, а на третьем – старшие классы. Лестничные проемы были огромными, потолки высокими. На полу – старый, но крепкий дубовый паркет, который натирался мастикой – приходил специальный человек, полотер дядя Петя, и, надев на ногу щетку, танцевал свой нелегкий танец. Стены до половины были выкрашены ярко-голубой, бьющей в глаза краской.
Повариху школьники звали по имени – тетей Тасей. Три раза в неделю она пекла замечательные пончики, за которыми выстраивалась длиннющая очередь.
Директрису Лидию Ивановну обожали все – от первоклашек до старших учеников. Она была спокойна и корректна, ко всем обращалась на «вы». Внимательно выслушивала чужое мнение, никогда не повышала голоса. Впрочем, ее и так было слышно. Ее уважали, с ней считались, ее любили. Понимали, что она – человек справедливый. Уроки географии, которые она вела, все обожали. Прогулять? Да такое просто никому бы и не пришло в голову.
А русичка, Елена Осиповна? Очень полная, одышливая, с трудом умещающаяся на стуле. Одинокая и бездетная, что, впрочем, не мешало ей искренне любить детей. Говорили, что до войны у нее был роман с известным поэтом, но он погиб на фронте, и больше она ни с кем отношений не заводила. Любила этого поэта всю жизнь, дружила с его сестрой и матерью. Это и была ее семья.
А математичка Надежда Ивановна? Очень строгая, даже чопорная. Очки, указка, резковатый голос. Но даже самые неспособные к математике гуманитарии не чувствовали себя на ее уроках идиотами.
А англичанка Тамара Васильевна, Томочка? Маленькая, тоненькая, как подросток, смешливая – на ее уроках всегда весело. А биологичка Зухра Абдурахмановна? Как она рассказывала о тропических бабочках! И это – совсем не по программе.
А химичка Анастасия Георгиевна, ставившая ко всем праздникам спектакли? Для малышей – «Красную Шапочку» и «Кота в сапогах», а для старшеклассников «Горе от ума» или чеховского «Ионыча».
Военное дело преподавал фронтовик Владимир Аронович – хромой, с рукой на перевязи, с изуродованным осколком лицом. Какое там военное дело? На уроках он читал стихи своих товарищей – Уткина, Багрицкого, Кирсанова. Сам писал книги о войне и был членом Союза писателей.
А любимая, обожаемая Ида Давыдовна, учительница начальных классов? На переменках девчонки бегали на второй этаж, чтобы повидаться с ней, поговорить о жизни, рассказать о своих проблемах. Она всех внимательно слушала, советовала, как поступить, передавала приветы родителям. Знала все про всех, и ей это было интересно.
Были, правда, довольно противная «трудичка» и туповатый физрук, но, как говорится, не без издержек. И потом, кто серьезно относился к труду или к физкультуре? Мирились, как с неизбежным.
И конечно, все – и ученики, и родители – понимали, что школа добротная, хорошая, со своими устоями и традициями.
Но кроме праздников, были еще и печали. В шестом классе умерла от саркомы Лара Сорокина. Класс прощался с ней. Она лежала в гробу, покрытая голубым шелковым покрывалом, на ее лицо медленно падали редкие снежинки – падали и не таяли. Учителя говорили прощальные речи, мать Лары держали под руки, а девочки стояли замерев: в первый раз они так близко увидели смерть.
Таня
Хозяйство вела бабушка, она же сидела с маленькой Женечкой. Мама вышла на работу на полставки – одной отцовской зарплаты на семью не хватало. Таня приходила из школы, обедала, тетешкалась с сестрой и убегала во двор. Уроки – вечером, надо же было передохнуть!
В семь лет Таня узнала правду: отец у нее неродной. Сказала ей об этом дочь дальней родственницы, девица старше ее на три года. Когда Таня упомянула про отца, эта «милая» девочка ехидно спросила:
– Отец? А про какого отца ты говоришь? У тебя же их два!
Таня растерялась и расплакалась.
– Дура! – крикнула она этой гадине. А потом задумалась: у нее действительно другое отчество, как-то она видела это в документах. И фамилия у нее Купцова, а отец и Женечка – Романовские. Она тогда спросила у мамы, но та отмахнулась: «Потом объясню». «Потом» не объяснила, и Таня больше не спрашивала, почему-то не хотела ставить маму в неловкое положение. Глупость, конечно. Уже после, став взрослой, она поняла, что это мама поставила ее в неловкое положение. Конечно, надо было все объяснить. Дети не дураки. Но у мамы была своя правда – она хотела, чтобы Таня считала отчима отцом. От родного отца все воспринимаешь по-другому. Наверное, в этом и была мамина правда. Отчим был хорошим человеком – никогда, ни разу Таня не почувствовала, что он любит Женечку больше ее. Никакого различия между девочками он не делал, впрочем, будучи человеком довольно холодным, равнодушным, что ли, он вряд ли был способен на большие чувства к детям. А вот маму он точно любил – это было видно по его глазам: когда он на нее смотрел, разговаривал с ней, называл ее нежными и смешными, придуманными им самим домашними прозвищами. Да и вообще, не любить красавицу и умницу маму было невозможно. Можно только было мечтать хоть немного, чуточку быть похожей на нее.
Таня не страдала от того, что отец ей неродной, – она просто не думала об этом. И потом, любви ей хватало – и мама, и бабуля, а главное – Женечка. Сестру она любила до дрожи, до беспамятства, больше всех на свете. Младшей сестры больше не было ни у кого – ни у Ляльки, ни у Верки, ни у Светика, ни у Шурыгиной, и все ей немножко завидовали. Когда Таня выходила с Женечкой во двор, все девочки начинали малышку трогать и целовать, пока Таня строго их не одергивала.
Родители уезжали на два года за границу, в очень далекую, неизвестную и таинственную страну – Малайзию. Таню с собой не взяли: при посольстве была только начальная школа. Мама плакала перед разлукой и обнимала ее, Таня тоже плакала и целовала маму и маленькую Женечку. Разлука представлялась ей большим и необъятным горем. Какие там джинсы, жвачки и дубленки? А два года не видеть маму и сестру? Провожали родителей в Шереметьево. Мама шла по длинному коридору, махала рукой и вытирала слезы, отец нес на руках плачущую Женечку. Потом, конечно, были письма и фотографии, цветные открытки с необычайными красотами – водопадами, океаном, китайскими пагодами. При любой возможности мама присылала Тане подарки: кофточки, платья, заколки и главное богатство – эластичные цветные колготки, красные, синие и белые. А на Новый год приехал курьер с огромной коробкой, в которой были невиданные деликатесы: копченая колбаса, черная икра, шоколадные конфеты и миноги в желе – любимое бабулино лакомство. В общем, не Новый год, а сплошное гастрономическое великолепие и разврат, как сказала бабушка. Еще мама присылала цветные ластики, пахнувшие малиной и клубникой, и перьевые китайские ручки, которые не текли – гладкие, перламутровые и очень удобные. А бабушка посылала с оказией маме и отцу бородинский хлеб и селедку в плоской металлической банке. На Таниной тумбочке у кровати стояла фотография Женечки, и каждый раз на ночь она ее целовала и говорила «спокойной ночи».
Два года пролетели, и Таня с бабушкой встречали свою семью в Шереметьево. Таня почему-то очень волновалась, и у нее сильно потели руки. Маму она сразу не узнала: боже, какая красавица! Женечка выбежала навстречу, и Таня подхватила ее на руки. Та вырывалась и кричала, что Таню она не знает, что ее сестра осталась там, на фотографии, в посольстве.
– Ты чужая девочка! – заявила Женечка.
Таня плакала и смеялась. Дома ждал накрытый стол: бабуля расстаралась. Мама с папой ели холодец и пироги и стонали от удовольствия. Женечка крутилась возле стола и отказывалась от незнакомых деликатесов. Потом она начала капризничать, и ее уложили спать. Таня присела на край кровати и гладила спящую сестру по голове. Она была счастлива.
Потом, конечно, мама стала разбирать чемоданы. Господи, и чего там только не было! Все, что могла и не могла себе представить советская девочка-подросток, выросшая в обычной среднестатистической семье. Какие платья, юбки, курточки! Какие лаковые туфельки – красные, черные, фиолетовые! А кожаная юбка! А золотое колечко с мелкими бирюзинками! Таня засыпала счастливая под тихий шепот бабушки и мамы, которые сидели за столом до рассвета, никак не могли наговориться.
В школу, конечно, мама «выпендриваться» не разрешила. А как хотелось! Потихоньку Таня положила в мешок со сменкой лаковые туфли и вскоре убедилась: мама была права, девчонки смотрели на нее косо, с явной завистью и осуждением. Конечно, кроме Верки и Ляльки. А как иначе? Они же близкие подруги, самые близкие. Поэтому зависть исключалась.
Верка
Какая зависть? Чему завидовать? Тряпкам и жвачкам? Этого добра у Верки было навалом. Гарри ее баловал, как мог. Покупал вещи на валюту, водил обедать в рестораны, возил на лучшие курорты. Верка ни в чем не знала отказа. Но разве дело в этом? Верка скучала по маме, каждый день и каждую ночь. Днем – еще куда-никуда, а ночью становилось совсем плохо. Верка плакала и причитала. Засыпала только под утро, вконец измученная. От Гарри она свои страдания скрывала, понимала, что и ему ох как нелегко. Видела, как он сидит на кухне, уронив голову на руки. И час сидит, и два.
Верка не завидовала ничему и никому в этой жизни, только тем, у кого была мама. Она помнила, как мама садилась на край ее кровати, щекотала ее за ухом и тоненькой струйкой дула в ухо. Верка отворачивалась и смеялась. И не было большего счастья.
Конечно, она понимала, что отец – совсем молодой мужчина, интересный и обеспеченный. Лакомый кусок для любой дамочки. Но что Верке до этого? Делить отца она ни с кем не собиралась. Эгоистка? Пусть так. Но не надо судить. Вы бы так попробовали! Не приведи господи.
Лялька
Лялька тоже никому не завидовала. Еще чего! Глупость какая! Зависть – непродуктивное чувство. Умная Лялька это понимала.
Тряпки Ляльку не очень интересовали. Ее не портили даже серые и убогие произведения советской легкой промышленности, потому что у нее была «фактура» – так говорила Танина бабушка: длинные и стройные ноги, тонкая талия и роскошные цвета льна длинные волосы.
Можно завидовать крепкой и дружной семье, но у кого на деле было так? У Таньки – отчим, неплохой, конечно, дядька, но не родной отец. У Верки вообще горе, мать похоронила. У Шурыгиной и вовсе вся жизнь развалилась – отец ушел к молодой, мамаша спивается. Вот уж кому можно посочувствовать! У Зойки бабка – идейный тиран, так говорит Лялькин отец. Держит эта бабка все семейство в ежовых рукавицах, не забалуешь. У Светика-семицветика все как сопли и сахарный сироп: «сю-сю» – и все общение. Мать под ней и папашей стелется, прогибается по полной. Смотреть противно.
Так что в свои четырнадцать лет Лялька четко усвоила: счастья нет, а есть покой и воля – как, смеясь, говорил папа. Еще Лялька догадывалась, что у отца есть женщины. Ну, во-первых, вечерами ему звонили, и он запирался в ванной с телефоном. На выходные уезжал с ночевкой. В отпуск ездил один. В смысле без мамы и Ляльки. То есть скорее всего не один. Правда, у него была большая компания походников и байдарочников, и Ляльке очень хотелось поехать с ним, в Карелию например. Но отец ее с собой не брал, как бы она ни просилась. Говорил, всему свое время. Из всего этого Лялька и сделала выводы, что в свои поездки папан отправляется не один. Ну, и бог с ним.
А вот глупая мамаша ревновала. Подслушивала под дверью его разговоры, требовала, чтобы он ночевал дома, «соблюдал приличия». Устраивала истерики, что отец дает мало денег, а «тратить на своих потаскух – это пожалуйста». Отец ничего ей не отвечал, только ухмылялся, а она заводилась еще сильней, закрывала собой входную дверь, отец вздыхал и говорил со смехом: «Откройте амбразуру, мадам!» Мать принималась рыдать и убегала к себе в комнату. Отец чмокал Ляльку и улыбался: типа держись!
Лялька отводила глаза. Мать жалела, но слегка презирала. К чему эти истерики? Ей, Ляльке, и то все понятно. А она? Взрослая женщина. К чему так унижаться? Лялька заходила в комнату, чтобы утешить мать, а та с пафосом заявляла: «Этот мерзавец сломал мне жизнь!»
Лялька тяжело вздыхала и уходила на кухню. Мать почему-то уже не было жалко.
Светик
Светика родители раздражали – вечно крутятся вокруг нее, хороводы водят. Мать до сих пор ей ногти на ногах стрижет. Противно. Хотя любой дочуркин каприз бегут исполнять наперегонки. Даже смотреть на них смешно. Короче говоря, «то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка».
Мать крутится целый день на кухне, чтобы угодить любимой дочурке и мужу. Папашу называет «кормильцем», с придыханием. А он жалеет ей денег на новую шубу и парикмахерскую. А она – ничего. Старую шубу подлатает, волосы в пучок закрутит – и опять за веник и за швабру. И так всю жизнь. А вот Светику папаша ничего не жалеет. Странно как-то. Потом она поняла: маман у него прислуга и домработница. Удобно. Вечером садятся ужинать – мать на подхвате. Кусок не успевает проглотить. Все скачет от стола к плите и наоборот. Отец раздраженно бросает ей:
– Сядь, не мельтеши.
А Светик вздыхает и закатывает глаза. Хозяйка мать отменная – и варит, и печет, и на спицах вяжет, и крючком. Отец после ужина ложится на диван перед телевизором, а маман сидит на кухне и вяжет папаше и Светику теплые свитера и носки. Тихонько так, чтобы никого не раздражать, и выражение лица у нее такое, словно она чего-то боится. А Светик отца не боится: знает, может подойти, поканючить: «Ну пап!..» Он тут же среагирует. Вообще считается, что Светик слаба здоровьем. Ну, простуды частые и горло болит. Папаша тут же привозит профессоров из закрытой поликлиники, те берут анализы, делают кардиограмму – все на дому. Маман выжимает через марлю гранатовый сок и ложками впихивает в Светика черную икру. Светик капризничает. В школу идти неохота.
Комната у Светика огромная, в два окна. Цветной телевизор, магнитофон, японский, кассетный. Болгарская дубленка цвета кофе с молоком, белые лаковые сапоги из «Березки». Чему завидовать? У Светика и так все есть.
Зоя
Зоя вообще на тряпки внимания не обращала. В ее семье ценили знания, а еще – скромность. Скромность вообще считалась главным человеческим достоинством. Да, можно позавидовать хорошей библиотеке, хорошему образованию. Но чему-то материальному – ни-ни. Хотя, если честно – а Зоя сама бы побоялась себе в этом признаться, – ей, конечно, очень нравились Танины лаковые туфельки, и золотистый ободок на волосах, и кожаный пенал на молнии. Но при этом она точно знала: без всего этого спокойно можно прожить, в жизни есть вещи куда более важные и значимые – так ее воспитывала бабушка. А главнее, чем бабушка, у Зои авторитета не было.
Да, еще Зое очень хотелось иметь младшую сестренку или братика. Но мама говорила, что это очень усложнит ситуацию – принесет бабушке много лишних хлопот. Плач ребенка, пеленки, проблемы. А бабушке нужно писать важные книги, читать лекции в школах. Ведь у нее такая судьба! Такие люди встречались на ее непростом жизненном пути! Словом, бабушке для ее творчества, такого необходимого людям, нужны тишина и покой.
Шура
Шура завидовала всем – Тане, Верке, Ляльке, Светику и Зое. Ведь все такие красавицы! Ну, у Зои, допустим, внешность вполне заурядная, но рядом с Шурой… Рядом с Шурой все красавицы. Да что там красота! Разве в этом дело! У других девочек были семьи с нормальными, непьющими родителями, и отцы не бросали своих дочерей и не уходили к молодым любовницам. И у всех на столе был обед и гости по праздникам. У Шуры тоже когда-то такое было. А какая у них раньше была красивая квартира! А теперь мать половину вещей продала, а половину раскокала. И такая грязь! Только Шура полы помоет, а они через час липкие и грязные. Она хорошо знала, что такое нормальная семья, и от этого ей было вдвойне больнее и тяжелее. А тряпкам и туфлям Шура не завидовала – в свои четырнадцать лет она хорошо понимала, чему можно завидовать и что в жизни главное.
Уже – про любовь
Конечно, уже начались влюбленности. В Таню влюбился главный хулиган, предводитель местной шпаны и гроза района Вовка Гурьянов. Вовка был высокого роста, широкоплечий и кривоногий, с длинной челкой, выбитым в боях передним зубом и в широченных «клешах». Ничего плохого Вовка и его дружки не делали – сбивались в стаю, курили, смачно и громко сплевывали и свистели вслед проходящим девчонкам, но их почему-то побаивались. Особенно – мальчишки. Вовка с компашкой приходил в Танин двор, садился на лавочку напротив ее окон, свистел и кричал:
– Таня, выходи!
Таня подходила к раскрытому окну, смотрела на Вовку, крутила пальцем у виска и со стуком закрывала окно. Выходить она, конечно, не собиралась. Еще Вовка писал цветным мелом, отобранным у малышей, на стене Танинного подъезда: «Танька! Я тебя люблю! И ты – самая КРОСИВАЯ девочка на свете». Таня проходила мимо этих посланий, вздыхала и качала головой. На Вовку ей было совершенно наплевать, но в душе ей было приятно, хотя в этом она ни за что не призналась бы даже Верке и Ляльке. А самой Тане нравился Павлик Бурляев из девятого класса. Павлик был высок и голубоглаз. На переменах, прислонившись к стене, он, не поднимая глаз, читал книгу. На Таню Павлик не обращал никакого внимания, да и на других девчонок тоже – это слегка утешало.
Верка была влюблена в своего соседа по лестничной клетке – Андрюшу Силладия, студента МГИМО, между прочим. Андрюша приходил в дом с высокой и кудрявой девицей в очках, бросал Верке «привет» и обнимал девицу за талию. Верка ревновала и страдала. Приговаривала, злобно прищурив глаза: «Ничего, придет война, хлебушка попросит».
А вот у Ляльки, можно сказать, уже второй год как был парень. На летние каникулы ее отправляли к родне в Мелитополь. Там у нее и закрутилось с одним аборигеном. Гуляли, целовались до вспухших губ. А потом Лялька уезжала в Москву до следующего лета. Мелитопольский пылкий кавалер ждал ее возвращения с нетерпением.
Девчонки с уважением относились к Лялькиному роману и считали, что у нее все «по-взрослому».
Светик полагала, что мальчиков, достойных ее величества, в принципе нет. Одноклассники – дураки и тупицы, пишут дурацкие записочки и подкладывают в парту шоколадки. Ей было даже неинтересно узнать, кто это делает. Ей нравились Ален Делон, Станислав Любшин и еще Вячеслав Тихонов. Но больше всех ей нравилась она сама, Светик-семицветик. Так нравилась, что она по часу крутилась перед зеркалом. С огромным, надо сказать, удовольствием.
А вот у Зои была одна страшная тайна, конечно, никому не известная. Ей нравился учитель физкультуры Геннадий Романович. Его поголовно все считали отъявленным тупицей, и Зоя, конечно, в душе была с этим согласна, но ничего поделать с собой не могла – хоть и объект был явно недостойный. Но, когда она смотрела на широкие плечи физрука, на его крепкие мускулы, широкую шею, светлый чуб и голубые глаза, ее сердце начинало бешено колотиться и спина покрывалась холодным и липким потом. Зое было неловко перед самой собой, но поделать с этим она ничего не могла. На уроках физкультуры она старалась быть лучшей – прыгать дальше всех и бегать всех быстрее. А когда она перепрыгивала через козла и Геннадий, помогая ей, поддерживал за спину, ей казалось, что вот прямо сейчас она грохнется в обморок. Словом, Зое было нелегко. Она даже спать по ночам начала рвано и тревожно.
В общем, половой вопрос, как ни странно, первым коснулся отличницы Зои. Значит, такова была ее пылкая природа, которая уже намекала, что доставит ей много хлопот и позволит наделать немало глупостей.
Шуре было не до любовей. Выжить бы! Справиться как-то с этой жизнью! Идеалом мужской красоты она считала отца, несмотря на смертельную обиду на него, от которой просто разрывалось сердце. Но, понимая, что все беды и горести, которые навалились на нее, разорвали ее жизнь пополам – до и после, – это была его вина, только его, она не переставала его любить, жадно, до боли в сердце. И так же сильно – ненавидеть. Она понимала, что такого мужчину у нее вряд ли будет возможность завоевать.
А пока – почти заканчивались учебный год и самая томительная, хотя и короткая, четвертая четверть. Все жили в предвкушении летних каникул.