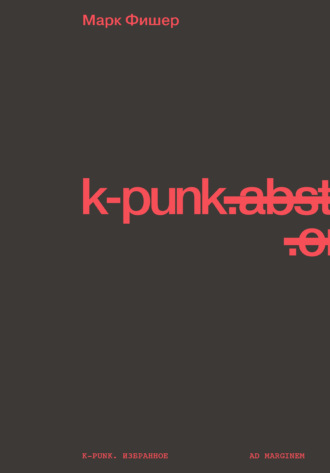
Марк Фишер
k-punk. Избранное
Мы уже активно переосмысляем возможности нашего мира, нужно лишь старательнее направлять свои усилия в правильное русло. Фишер пишет: «Кислотный коммунизм обещает нам новое человечество с новым ви́дением, новым мышлением и новым способом любви»[30]. «Конечно, теперь мы знаем, что революция не состоялась»[31], точнее – многие революции, обещавшие нам новые способы жизни, столь заманчиво близкие и доступные. Но Фишер всё же настаивает: «Материальных условий для нее [революции] в XXI веке больше, чем в [прошлом]»[32]. В числе этих условий кипящая атмосфера недовольства, пронизывающая всю нашу трудовую жизнь, а также множество новых технологий, обещающих нам новые способы жить и любить за рамками догм капиталистического реализма.
Тем не менее мыслить вне капиталистических рамок – трудно и даже страшно. За пределами капиталистического реализма нас «может поджидать тьма самых разных ужасов, – пишет Фишер в предисловии к Странному и жуткому, – но эти ужасы – не всё, что нас там ждет»[33]. Там – целый мир, и, отправляясь на его поиски, мы не найдем лучшего проводника по его возможностям, призракам и вероятным местам его «выхода на поверхность», чем сам Марк Фишер.
Мэтт Кохун
Июль 2024
(1) Почему «K»?[34] 16.04.2005
1 Почему я стал вести этот блог? Потому что он казался мне единственным местом, где можно было поддерживать дискурс, в свое время начавшийся в музыкальной прессе и художественных школах, но с тех пор почти полностью исчезнувший, что, на мой взгляд, привело к ужасным культурным и политическим последствиям. Мой интерес к теории в значительной степени возник под влиянием авторов вроде Яна Пенмана и Саймона Рейнольдса, поэтому для меня всегда существовала тесная связь между теорией и поп-культурой или кино. Обойдемся без сопливых историй: сложно представить, откуда еще у человека моего происхождения мог бы возникнуть академический интерес.
2 Поэтому мои отношения с академической средой всегда были… сложными. К тому, как я воспринимал теорию – в основном через поп-культуру, – в университетах обычно относились с отвращением. И взаимодействия с академией, как правило, вызывали у меня в буквальном смысле клиническую депрессию.
3 «Центр исследований кибернетической культуры» (Ccru) развивался не благодаря, а вопреки и был своего рода отдушиной, местом, где мы могли продолжать изучать взаимодействие между популярной культурой и теорией. Вся «низкопробная» теория или теоретический фикшн теоретизировал массовую культуру насквозь, а не громоздился «над» ней. Ключевой фигурой в Ccru был Ник Ланд, потому что только ему удавалось (правда, недолго) одновременно занимать позицию на факультете философии и самоотверженно быть открытым миру вовне. Кодво Эшун возглавлял коммуникацию в обратном направлении – из популярной культуры вглубь заумной теории. При этом мы все были согласны с тем, что, скажем, джангл – уже предельно теоретическое понятие. Джангл не нуждался в осуждении или проповедях научного сообщества. Роль теоретика в данном случае – лишь роль усилителя.
4 Термин «кей-панк» появился в Ccru. Слово «кибернетика» происходит от греческого «kuber», поэтому мы взяли более либидинально привлекательный вариант «K» вместо калифорнийского «C» из слова «cyber», от которого веет статьями из журнала Wired. Ccru понимали киберпанк не как (в прошлом модный) литературный жанр, а как новую тенденцию культуры, распространению которой помогали новые технологии. Точно так же слово «панк» не обозначает конкретный музыкальный жанр. Оно представляет собой слияние культурных феноменов за пределами официальной, легитимизированной культуры. Фанзины были важней музыки в том плане, что их метод производства и распространения предлагал совершенно иную модель, которую легко было перенять и которая не предполагала централизованного управления сверху.
5 Появление дешевого и простого в использовании музыкального софта, интернета и блогов породило беспрецедентную в своей доступности инфраструктуру панка. Оставалось лишь усилием воли верить в то, что вещи, которые не проходят по «официальным» каналам, могут быть такими же (и даже более) важными, чем всё авторизованное и легитимное.
6 Но со времен панка 1970-х произошло огромное сокращение ресурса воли. Широкая доступность средств производства сопровождалась восстановлением мощи официальной власти.
7 В мире академии университеты либо игнорировали, либо полностью отказались сотрудничать не только с теми, кто был напрямую связан с Ccru, но и со многими из Уорика. Стив «Hyperdub» Гудман и Лучана Паризи – два участника Ccru, которым всё-таки удалось занять позиции в университетах. Большинству из нас пришлось работать за пределами академического мира. Возможно, именно благодаря тому, что мы не были инкорпорированы («подкуплены»), основной костяк Уорикской ризомы смог сохранить тесную связь и прочную независимость. Большая часть текущей теории кей-панка была разработана в сотрудничестве с Ниной Пауэр, Альберто Тоскано и Рэем Брассье (одним из организаторов конференции NoiseTheoryNoise в Миддлсекском университете в прошлом году). Растущая популярность философов вроде Жижека и Бадью означала, что теперь внутри академии появилась неожиданная, хоть и бунтарская и непостоянная группа поддержки.
8 Я преподаю философию, религиозные исследования и критическое мышление в Орпингтонском колледже. Это колледж дополнительного образования, большинство учащихся в нем – студенты от шестнадцати до девятнадцати лет. Это сложная работа, но студенты по большей части отличные, гораздо более готовые к дискуссии, чем студенты бакалавриата. Поэтому я совсем не считаю эту позицию менее значимой, чем «настоящая» академическая должность.
(2) Книжный опрос[35] 28.06.2005
Как минимум два человека попросили меня это сделать, так что поехали.
1 Сколько у тебя книг?
Понятия не имею. Не представляю себе адекватный способ их сосчитать.
2 Какую последнюю книгу ты купил?
Сексуальная привлекательность неорганического Марио Перниолы[36].
3 Какую последнюю книгу ты прочел?
Закончил: Моя Англия Майкла Брейсвелла[37] – большое разочарование. Там есть отдельные удачные места, но структура меняется от главы к главе: то историческое повествование, то вдруг тематическое, то региональное. Всё время возникает ощущение недосказанности. Не могу не думать о том, что Брейсвелл бы только выиграл, если бы больше сфокусировался. Поэтому с нетерпением жду его книгу про Roxy Music, которая должна выйти в этом году. (А еще в Моей Англии слишком много внимания уделяется Английской Литературе: меня сложно заинтересовать Уильямом Генри Скучнейшим[38]).
Заканчиваю: Элементарные частицы Уэльбека. Неудивительно, что эта книга так нравится Жижеку. Лучшего развенчания культа хиппарского гедонизма и его жалкого нью-эйджевого дзен-наследия не придумать.
4 Пять книг, которые много для меня значат.
(Ненавижу все эти списки лучших фильмов / книг / альбомов, где на первом месте всегда оказывается нечто, что ты прочитал / посмотрел / послушал последним, поэтому я решил выбрать только те книги, которые что-то для меня значат уже как минимум лет десять).
КАФКА: ПРОЦЕСС, ЗАМОК
Возможно ли снова почувствовать от книг, альбомов и фильмов то, что ты чувствовал, когда был подростком? Самые печальные периоды моей взрослой жизни – когда я терял верность тому, что открыл для себя в 14–17 лет у Джойса, Достоевского, Берроуза, Беккета, Селби… Можно выбрать любого из них, но я выбираю Кафку, потому что для меня он всегда был самым близким и постоянным спутником.
Впервые я познакомился с ним, прочитав сборник Романы Франца Кафки издательства Penguin, который мои родители, не очень понимающие в литературе, подарили мне на Рождество со словами «выглядит как что-то, что может тебе понравиться». Так и было.
Сейчас сложно вспомнить, как я тогда воспринял эти тексты. Понравилось мне или же я остался разочарованным – не могу сказать. В конечном счете Кафка не из тех авторов, кто моментально сражает. Он погружает тебя в свой мир незаметно, медленно. Думаю, я в тот момент жаждал более четкого декларирования экзистенциальной отчужденности. Но это совсем не про Кафку. Это был не мир метафизического величия, а захудалая, тесная норка, в которой господствовало не героическое отчуждение, а нарастающее смятение. Физическая сила почти не играет роли в произведениях Кафки. Движущей силой его извилистых историй без сюжета является пронизывающая мир опасность публичного позора.
Помните те душещипательные сцены Процесса, когда К. в поисках зала суда в административном здании поочередно стучится в каждую дверь, представляясь маляром? Гениальность Кафки заключается в банализации этого абсурда: поразительно, что, вопреки нашим ожиданиям, судебное дело К. действительно слушается в одной из жилых квартир. Ничего удивительного. И почему же он опоздал? Чем более абсурдными К. считает вещи, тем сильнее стыдится своего непонимания устройства работы Суда или Замка. Премудрости бюрократии кажутся ему нелепыми и раздражающими лишь потому, что он «еще не понял». Как пример – комическая сцена из Замка, где К. сообщают, что телефоны функционируют как музыкальные инструменты, – это по сути предвосхищает тоталитаризм, но не политический, а мира победивших кол-центров. Какой же он идиот, если, звоня кому-то, ждет, что ему ответят? Разве он настолько неопытен?
Неудивительно, что король смущения Алан Беннетт – дикий фанат Кафки. И Беннетт, и Кафка понимают, что правящий класс не подвержен стыду, несмотря на все их абсурдные ритуалы, одежду, акценты. Это происходит не потому, что существует особый код, который знают только они (никакого кода нет), а потому, что они всё делают правильно, ведь это делают именно ОНИ. Следовательно, если вы не из «узкого круга», вы никогда не сможете НИЧЕГО сделать правильно; вы априори виноваты.
ЭТВУД: КОШАЧИЙ ГЛАЗ
Как-то Люк попросил меня привести примеры «холодной рационалистической» литературы. Очевидный ответ – Маргарет Этвуд, обладающая репутацией холодной рационалистки, но вообще почти вся литература – холодная и рационалистическая. Почему? Потому что она позволяет нам взглянуть на себя как на цепочки причин и следствий и, парадокс, тем самым достичь единственной доступной нам степени свободы. (Даже Уордсворт, восхищавшийся Спинозой, описывал поэзию как «эмоцию, собранную в спокойствии», то есть не сырую эмоцию, выраженную в дионисийском извержении).
Кошачий глаз – не самый мой любимый роман Этвуд (любимый, пожалуй, Постижение), но именно он больше всего для меня значит. Я не вспомню всех деталей сюжета, но никогда не забуду дико живые описания беспощадной, хоббсовской жестокости подростковой «дружбы». Они идут за тобой, чтобы раскритиковать твои ботинки, твою походку… Они хуже твоих самых злейших врагов. Долгие дни, ощущение, как тосты на завтрак превращаются в картон во рту, перманентная тревога, настолько острая, что перестаешь ее воспринимать.
Главный период формирования личности, – раннее детство или ранние подростковые годы? Чтение Кошачьего глаза в мои двадцать лет было своего рода автопсихоанализом, способом выбраться из мизантропии, подавленного гнева и сумасшедшего чувства неполноценности, оставшихся мне с подростковых лет. Ледяной анализ Этвуд показывал, что тогдашние унижения были структурным эффектом подростковых взаимоотношений, совершенно не связанным конкретно со мной.
СПИНОЗА: ЭТИКА
Спиноза меняет всё, но постепенно. Нет никакого «пути в Дамаск» для обращения к учению Спинозы, только неумолимое избавление от предубеждений. Как всегда бывает с лучшей философией, чтение Спинозы похоже на просмотр кассет из Видеодрома: вы думаете, что смотрите фильм, а оказывается, что он смотрит вас, постепенно меняя ваши способы мышления и восприятия.
Меня интересовал Спиноза в студенческие годы, но по-настоящему я начал его понимать уже в Уорике, под влиянием Делёза. Больше года мы изучали Этику в ридинг-группе. Это философия, которая одновременно была запредельно абстрактной и непосредственно практичной, охватывающей как вопросы вселенского масштаба, так и мельчайшие детали человеческой психики. Это ли не «невозможное» объединение структурного анализа и экзистенциализма?
БАЛЛАРД: ВЫСТАВКА ЖЕСТОКОСТИ
Если эффект от чтения Спинозы и Кафки был медленного действия, то Баллард бьет мгновенно, в один момент достигая моего переполненного медиасигналами бессознательного.
Отчасти так случилось потому, что я столкнулся с Баллардом задолго до того, как стал читать его прозу: у Joy Division (скорее в звуке Ханнетта, нежели в текстах песен; та же песня Atrocity Exhibition[39] со своей страдальческой интонацией была максимально далека от бесстрастной рассудительности Балларда), у Foxx и Ultravox, у Cabaret Voltaire, у Magazine.
Затонувший мир – его лучший роман-катастрофа, о хладнокровном путешествии Конрада нового времени сквозь сюрреалистически правдоподобные пейзажи затопленного Лондона. Но главным текстом Балларда всё же является Выставка жестокости. Она предоставила своим читателям, в куда большей степени, чем популярная Автокатастрофа, концептуальный и методологический инструментарий для изучения ХХ века, основанный на его же содержимом. Это аскетичное модернистское произведение, почти не дающее пространства ни сюжету, ни персонажам, больше походит на вымышленную скульптуру, чем на историю, то есть на серию маниакально повторяющихся узоров.
Да, Балларда приняли критики, он стал литературной величиной, но не будем забывать, что его бэкграунд отличался от стандартного оксбриджского книжного червя. Баллард спас Британию от Английской Литературы, от «пристойных» ценностей гуманизма и сонливости воскресных газет.
ГРЕЙЛ МАРКУС: СЛЕДЫ ПОМАДЫ
Я уже писал о том, насколько эта книга важна для меня. Я прочитал ее, когда окончил университет: никаких планов, будущее схлопывается в обреченной попытке встроить себя в тэтчеровскую экономическую реальность. Сплетенные в огромную паутину сюжеты книги Маркуса открыли для меня путь к побегу. Это было описание трансисторического События, прорыва, задействовавшего анабаптистов, ситуационистов, дадаистов, сюрреалистов, панков. Такое Событие было абсолютной противоположностью Великих Зрелищ 1980-х годов, срежиссированных «не-событий», чей парад на международном телевидении увенчался концертами Live Aid. Оно было быстрым и тихим, даже тогда, когда привлекало массы. Следы помады уверяют, что поп-музыка имеет значение лишь тогда, когда перестает быть «просто музыкой», когда резонирует с политикой, никак не связанной с капиталистическим парламентаризмом, – и с философией, никак не связанной с академией.
Следы помады лучше всего читать как часть текстовой ризомы, фиксирующей десятилетие – или уже больший срок – влияние панка. Обратите также внимание на журнал Vague (один из главных триггеров для киберпанковской теории Ccru – статьи Марка Даунхэма в этом журнале) и Сон Англии Сэвиджа[40]. (Этот набор стоит дополнить Всё порви, начни сначала[41], когда она выйдет.)
Пост-панк 1978–1984 / пер. М.: Шум, 2021.
5 Передайте эстафету пятерым.
Не припоминаю блогов, где бы не было этого опроса, – даже не знаю, кого еще и назвать.
(3) Ни на что не годен[42] 19.03.2014
Я с подростковых лет периодически страдаю от депрессии. Некоторые депрессивные эпизоды были особенно сложными, – я занимался селфхармом, отказывался от активной жизни, сидя в своей комнате месяцы напролет, изредка выползая в магазин за минимальным количеством еды, попадал в психиатрические клиники. Не могу сказать, что я избавился от депрессии, но рад сообщить, что хотя бы периодичность и острота моих депрессивных эпизодов с годами заметно снизились. Отчасти это результат перемен в моей жизни, но также и нового понимания депрессии и процессов, которые ее вызывают. Я рассказываю о своем психическом расстройстве не потому, что оно мне кажется особенным, а потому что, на мой взгляд, многие формы депрессии яснее осознаются – и лучше поддаются лечению – путем познания внеличностных и политических причин болезни, нежели индивидуальных или «психологических».
Сложно писать о своей депрессии. Отчасти она складывается из издевательских голосов в твоей голове, навязчиво убеждающих тебя в ее отсутствии – в том, что ты жалок и тебе нужно собраться и взять себя в руки, а попытки рассказать кому-то о своем состоянии делают только хуже. Конечно, эти голоса никакие не внутренние, они – интернализация эффекта общественных сил, многие из которых заинтересованы в отрицании связей между депрессией и политикой.
Моя депрессия всегда была связана с убежденностью в том, что я ни на что не годен. До тридцати лет я считал, что никогда не смогу нормально работать. Десять предыдущих лет я провел, бесцельно мотаясь между учебой в магистратуре, периодами безработицы и временными работами. И я был уверен, что везде лишний: в магистратуре я чувствовал себя кое-как пробившимся дилетантом, но не настоящим исследователем; безработным я был потому, что увиливал, а не честно искал себе место; на временных работах я был неважным работником, да и не годился работать на заводе или в офисе, но не потому, что был «слишком хорош», напротив, я был совершенно бесполезен со своим высшим образованием и лишь занимал те должности, которые стоило бы отдать тем, кто заслуживал и нуждался в них куда больше меня. Даже когда я находился в психиатрических клиниках, меня не покидала мысль, что я просто ищу способ не работать, или – следуя параноидальной логике депрессии – что на самом деле я депрессию симулирую, дабы скрыть собственную профнепригодность и отсутствие для меня места в обществе.
Потом я стал читать лекции в колледже дополнительного образования и на какой-то период почувствовал воодушевление, – лишь подчеркивающее, что я не переборол ощущения своей никчемности, и вскоре я снова впал в депрессию. Мне не хватало спокойной уверенности человека на своем месте. На каком-то глубинном уровне я не считал себя способным преподавать. Откуда взялось это убеждение? Все основные школы психиатрии находят первопричины таких «убеждений» в нарушениях нормальной работы химии мозга. В психоанализе и тех формах терапии, на которые он оказал влияние, исследуют корни психических расстройств в истории семьи, тогда как когнитивно-поведенческая терапия не концентрируется на поиске причин, а занимается изменением мышления с негативного на позитивное. Неправильно было бы назвать эти способы ложными, но они упускают возможность исследования корней чувства неполноценности под самым очевидным углом: как влияние общества. На мне сильнее всего сказался класс, хотя, конечно, гендерная, расовая и другие формы угнетения порождают то же чувство онтологической неполноценности, лучше всего выраженное в мысли, которую я сформулировал выше: ты никогда не будешь способен выполнять ту роль, которая предписана доминирующей над тобой группе.
По совету одного из читателей моей книги Капиталистический реализм я начал изучать работы Дэвида Смейла. Смейл – психотерапевт, основывающий свою практику на вопросах власти, – подтверждал мои гипотезы относительно первопричин депрессии. В своей главной книге Истоки несчастья он описывает, насколько неизгладимы последствия классового неравенства. Для тех, кто с рождения привык думать о себе как о меньшинстве, достижение финансовой и моральной свободы не может стереть последствий такого мышления – ни для самого человека, ни для окружающих; это первичное чувство никчемности живет в нем с самого детства. Люди, у которых получается покинуть свою социальную страту, сбежать оттуда, где, как им кажется, они на «самом деле должны быть», всё время живут на грани падения в головокружительную пучину паники и ужаса:
… изолированные, отрезанные от своей среды и оказавшиеся во враждебной, вы становитесь людьми без связей, стабильности, поддержки. Эта тошнотворная параллельная реальность берет над вами верх: вы боитесь потерять себя, испытываете синдром самозванца, – то есть не чувствуете себя в праве находиться здесь и сейчас, в собственном теле, в своей одежде. Ведь на самом деле вы – ничто, и ничем, как вам кажется, стать не можете[43].
Одной из самых успешных тактик правящего класса привычно считается перекладывание ответственности. Люди низших классов должны считать, что бедность, безработица, отсутствие перспектив, – исключительно их вина. Каждый винит себя, а не социальные структуры, в которые их убеждают не верить (ведь это всего лишь предлог, который используют слабаки). «Магический волюнтаризм», как называет его Смейл, то есть вера в то, что каждому по силам стать тем, кем он хочет, – это преобладающая идеология и неофициальная религия нынешнего капиталистического общества, продвигаемая «экспертами» реалити-ТВ, бизнес-гуру и политиками. Магический волюнтаризм – это одновременно причина и следствие нынешнего (очень низкого) классового сознания. Это обратная сторона депрессии, то есть убежденности в том, что в своих бедах виноваты только мы сами, следовательно, мы их и заслуживаем. В особенно жестокий тупик загнали сегодня безработных в Британии: им всю жизнь говорили, что им по силам стать кем угодно, но при этом – что они ни на что не годны.
Фаталистическую покорность британского народа жесткой экономии надо понимать как следствие намеренно культивируемой депрессии. Эта депрессия проявляется в принятии того, что дальше будет только хуже (для всех, кроме элит). Спасибо на том, что есть хоть какая-то работа (и не стоит возмущаться, если зарплату не проиндексируют вслед за инфляцией), ведь мы не можем себе позволить содержать безработных на пособиях. Коллективная депрессия – это результат усилий правящего класса по убеждению низших классов в том, что они должны подчиняться. Мы уже давно смирились с тем, что действовать – не наше дело. И виноваты в этом не больше, чем человек в депрессии, который не может просто «взять себя в руки» и «не грустить». Перестройка классового сознания – грандиозная задача, к достижению которой не ведут готовые решения. Но, несмотря на внушения нашей коллективной депрессии, эту задачу еще можно осуществить. Изобрести новые формы вовлечения в политические процессы, возродить разрушенные общественные институты, обратить приватизированное недовольство собой в политизированный гнев. Кто знает, что тогда станет возможным?



