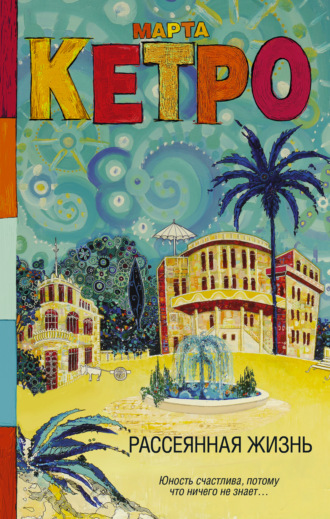
Марта Кетро
Рассеянная жизнь
Маленький бумажный самолётик,
Сложенный из листка в клетку, на котором
Я написал заветное своё желанье,
Попал в грозовой фронт над палестинскими
территориями
И сгорел, так и не увидев
Посадочных огней Бен-Гуриона
(Этот свет, маленькую искру,
Видели в полночном небе лётчики израильских ВВС,
лучшие асы в мире,
И засвидетельствовали о том под присягой)…

Рисунок на переплете – Зое Север
© М. Кетро, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
1. <Поль>
Секрет добрососедских отношений обитателей последнего дома на улице Аронсон состоял в том, что все они искренне считали друг друга сумасшедшими. Поэтому общались с добродушным смирением, изредка срываясь в шумные свары, но без зла – что с психов возьмёшь.
И вдруг сегодня Поль проснулась оттого, что безобидная, обычно тишайшая Тиква ревела, как медведь: «Шлюююхаааа!»
Кричала, конечно, по-арабски: «Шармута!»
Из дальнейшего скандала стало ясно, что соседский сеттер Рочестер спросонок попытался напасть на какую-то из бесчисленных кошек, которых прикармливала Тиква. С одной стороны, Поль радовалась, что та подбирает несчастных животных, служащих прочим равнодушным гражданам живым укором, но с другой, Тиква была противницей стерилизации. Как-то перехватила Поль на улице и со слезами на глазах рассказала, что пропал её любимец Васья, три дня не было, а потом вернулся нецелый: «Представьте, его поймали и скастрировали!»
– Какое горе, – холодно ответила Поль.
По самым примерным подсчётам во дворе ошивалось уже два десятка кошек и число их неуклонно росло.
И сегодня Рочестер, провожавший в детский сад заспанного Джулиена, не сдержался. Напрасно его хозяйка, очень вежливая американка, бесконечно извинялась – Тиква кричала так, будто кошку порвали на клочки, а потом долго сидела на лавочке во дворе, являя собой воплощённую скорбь: смотрела в одну точку и ни с кем не здоровалась.
У Тиквы был очаровательный русский язык, её привезли в Израиль в три года и с тех пор прошло четыре с лишним десятка лет, но она сохранила довольно чистую, своеобразно окрашенную речь, которая была бы милой, если бы не лёгкое, но очевидное безумие. Поль, про себя называвшая соседку «старушкой», поразилась, когда посчитала её годы – Тиква-то ненамного старше неё, а как выглядит. Правда, иногда она находила работу или мужчину и тогда наряжалась, подкрашивала губы, выпускала из тугого пучка кудряшки и отчётливо преображалась, но не столько благодаря невинным ухищрениям, сколько от внутреннего сияния. Некоторая умственная отсталость сообщала Тикве непосредственность, она не стеснялась светиться от счастья, когда подбирала очередного возлюбленного – в последний раз это был бродяга, одеревеневший от пьянства. В начале отношений они устраивали свидания во дворе, парочка подолгу сидела на скамейке, и Тиква щебетала, не смущаясь отсутствию эмоциональной реакции у своего кавалера. Потом сладились, зажили семьёй и начали ходить за покупками в дешёвый супермаркет «всё по пять шекелей». После зимних дождей бомж исчез, а Тиква погасла и перестала распускать волосы – до следующей любви. Её имя означало «Надежда», и Поль не могла вообразить более правдивого воплощения этого подлого чувства, чем простодушная, доверчивая, безумная седая девочка.
Несмотря на то, что Поль жила на Аронсон больше года, она толком не знала своих соседей. Была семья американцев, чьи голоса раздавались под её окнами с плотными жалюзи, которые она всегда держала полуприкрытыми. Поль запомнила только имена обоих детей и собаки, потому что слышала, как их окликали, но зато ей было известно многое другое. Старший, Джулиен вечно кашлял, и Поль иногда беспокоилась из-за его бронхита. Он говорил с родителями на иврите, но отец отвечал ему на английском – билингва растили, стало быть. Папа шутил, всё время напевал и болтал с детьми сквозь улыбку; голос матери был не очень приятный, какой-то старообразный, но Поль ей многое простила, когда услышала, как она, укладывая младенца в коляску, извинилась перед ним: «Сожалею, Сэмуэль, ты голоден, но…» Больше всего на свете Поль ценила хорошее воспитание, ведь вежливость – это единственное, что люди по-настоящему должны друг другу, – никто не обязан быть тёплым и дружелюбным, но быть вежливыми извольте, это вопрос минимальной гигиены общения.
В этом смысле её совершенно устраивали Тиква и американцы, последние только в теории – она не перебросилась с ними и словечком. Более того, первые полгода она их даже не видела и только представляла, ориентируясь по голосам. Папа наверняка блондинистый высокий клерк в белой рубашке, а мама невзрачная широкозадая брюнетка в очках. В иврите было обидное, но честное словечко «шмануха», от слов «шмена» – жирная, и «намуха» – низенькая, вот такая. Но как-то Поль шла мимо фалафельной возле рынка Кармель, услышала знакомую улыбчивую речь, оглянулась и поняла, что угадала только с очками. Женщина оказалась хоть и маленькой, но стройной, а мужчина невысокий, тёмный, типичный бритый тель-авивец в майке, никакого лоска.
Безымянной осталась и соседка-певица, которая читала рэп и обожала выводить джазовые рулады, страшно фальшивя. При этом умудрялась преподавать вокал, раскрывала голос начинающим исполнителям: что-что, а драть глотку от души она умела. Зато Поль знала имена пожилого наркомана в завязке (Дани), которого навещала сотрудница соцслужбы, и дементной старушки – Ривка. К той приходила чуть более здравая подружка и выкликала во двор, чтобы пособачиться. Сути конфликта Поль не понимала, как, впрочем, и обе его участницы. Ривка иногда что-то кричала Поль из окна, та улыбалась в ответ и шла к себе. В её квартирку вело отдельное крыльцо и контакт с соседями получался минимальный, был свой маленький дворик, где она расставила цветы и развесила зеркала, подобранные на помойке. Иногда находила горшки перевёрнутыми и грешила на Дани, у которого бывали приступы агрессии.
Поль осознавала, что и с ней самой не всё ладно, уж слишком её переклинило на одиночестве. Несколько месяцев посещала курсы иврита, но группа подобралась франко- и англоязычная, она ни с кем не сблизилась. В городе было несколько знакомых, большей частью бывших москвичей, переехавших совсем недавно, с некоторыми она раньше общалась только в Сети, по работе, а здесь впервые повидалась. В профессии Поль занимала нишу для «культурных девушек»: анонимно вела аккаунты нескольких маленьких брендов в Инстаграме и Фейсбуке, писала колонки про отношения на женские сайты и сочиняла подростковые романы. Для двух последних работ она имела псевдоним – Полина Грейф, который настолько прижился, что при переезде записала его в израильские документы, сократив имя до Поль. Тётка в аэропорту фыркнула:
– Ладно бы еврейское взяли!
Поль могла бы возразить, что фамилия папеньки – Грейфан, к тому же, английское grief соответствовало её характеру, она всегда была грустной девочкой. Но лишний раз спорить не хотелось: тётка же запретить не могла, документы на новое имя всё равно надо получать в МВД, ну и нечего ей объяснять. Но та не успокаивалась:
– Ну зачем «Поль», вы же не Полина по паспорту? Вы, может, не в курсе, на иврите «поль» – бобы, а ещё это слово «пэй-вав-ламед», читается и «фуль», варёные бобы. Хотите быть варёным бобом? Ну, как знаете.
Поль только улыбалась – она знала. Когда-то давно у неё были особо нежные отношения с одним из бобовых, да…
Дама всё не успокаивалась, и даже город вероятного проживания Поль – Тель-Авив – вызвал её неодобрение.
– Там же дорого, вы не потянете!
– Не беспокойтесь обо мне, я справлюсь.
И тётка махнула рукой. Эти новенькие всегда совершают одни и те же ошибки, никого не слушают, но свой ум не вложишь, невозможно прожить за человека его жизнь. Тем более, перед ней, скорее всего, очередная охотница за страховой медициной и синим израильским паспортом, из тех, что отсиживают в стране положенные полгода и возвращаются обратно, чтобы кататься по европам без визы, а потом вспоминают о гражданстве только когда по здоровью припрёт. Отменить бы тот закон о возвращении, по которому в страну тащат кого попало, основываясь на четвертушке еврейской крови… Но раздражение быстро погасло – да ладно, пусть живёт, может, будет ей мазаль[1], мужа найдёт, а то ведь одиночка. А тут и деток нарожает, хоть и возраст критический, но врачи у нас хорошие. На вид-то ей чуть за тридцать, своих не дашь – они там, в России, все помешаны на уколах всяких, ботоксах, молодятся. Чего боятся, чего так от времени прячутся, не понять…
Но раздумывать о судьбе упрямой бабёнки было некогда, на её месте уже сидел новый испуганный репатриант, ошалевший от перемен, происходящих в судьбе.
А Поль может и не знала, как оно лучше, но зато чётко представляла, чего хочет. Она хотела и это имя, и этот город, и ровно такую жизнь, как выбрала. В прежние времена стала бы оправдываться, объяснять что-то, налаживать отношения с соседями, вживаться в «настоящий Израиль», а не в собственный полупридуманный сновидческий Тель-Авив, который однажды окинула близоруким взглядом, досочинила то, чего не разглядела, и полюбила навсегда. Но той удобной девочки давно и следа не осталось, а нынешняя женщина хоть и не очень приятная, зато решительная и жизнью своей управляет сама, как умеет.
Поль нравилось вспоминать, как начиналась эта любовь, единственная, которая ей удалась – у неё были отношения несимметричные, когда один из пары только позволял себя любить. Случались и вполне взаимные, но вместе остаться не удалось, и даже в обоюдном дружелюбном равнодушии получилось пожить. Но вот так, чтобы душа в душу и вместе, – такое впервые. В любви этого города она не сомневалась, здесь ей слишком везло. Например, с жильём – приезжая туристкой, умудрялась не слишком дорого селиться в самых лучших районах, а когда переехала окончательно, удача не изменила, и ей досталась крошечная квартирка в прелестном квартале Керем а-Тейманим. Пристройка, где она располагалась, предназначалась под снос, но никто не знал точных сроков, и хозяйка предложила договор без гарантий, пока на полгода, а потом как пойдёт, зато гораздо дешевле обычного в этом районе. Раньше здесь жила почтенная матушка большого йеменского семейства, но, как деликатно выразилась её дочь Гала: «Этим летом она перестала нас радовать». «Остаётся надеяться, что они её не усыпили», – подумала Поль.
Но поначалу она не сомневалась, что эта любовь станет несчастливой, как и все прочие. Потому что никакой эмиграции ей не светило, породой не вышла, мама была безнадёжно рус-ской, разве что с четвертинкой цыганской крови, отца она не знала. Он дезертировал с семейного фронта, когда ей было три, и мама раз и навсегда вычеркнула его из жизни, даже фамилию дочери поменяла и на вопросы отвечать отказывалась. Чуть что – в крик: «Не хочу про этого подлеца говорить, не мотай мне нервы». О том, что он какой-то непонятный Грейфан, Поль узнала случайно, уже будучи взрослой, и тут же выкинула это из головы. И только когда придумывала себе очередной сетевой псевдоним, фамилия всплыла в памяти, но Поль не связала её с какой-либо национальностью: прикольно звучит, и ладно. Главное, маме не проболтаться, чтобы не обиделась.
И теперь Поль приготовилась к печальному роману, который будет раз за разом разбивать её сердце и опустошать кошелёк. Тель-Авив – до смешного дорогой город, в рейтингах его опережают только всякие там Цюрихи и Парижи, но про них-то понятно, а вот почему обшарпанный южный городишко, счастливая смесь Ближнего Востока, Европы и российской Ялты уверенно стоит в первой десятке, – загадка. Нет, экономические причины тому существуют, но кто в здравом уме согласится платить за крошечную студию на окраине, как за уютную двушку в центре Берлина? А за обычную еду в безликой кафешке, как в московском ресторане с авторской кухней? Но таких ненормальных нашлось множество, и Поль с изумлением обнаружила себя в их числе.
С впечатлительными интеллигентами, где бы они ни родились, случается, что человек внезапно влюбляется в чужую страну, начинает носить местную одежду, с головой ныряет в изучение культуры, усердно постигая тонкости, очевидные для любого аборигена с младенчества, и не помнит себя от счастья, если кто-нибудь говорит: «О, да ты стал совсем как…» Неважно, как израильтянин, как русский, ирландец, маори или японец. Со стороны он, конечно, выглядит, африканцем в кокошнике, играющем на балалайке «калинку-малинку», но сердце его ликует.
Поль для глубокого погружения не хватало ни усидчивости, ни впечатлительности, она не ощущала неожиданной близости и не слышала голоса крови, о которой тогда и не подозревала. Это была чистой воды бессмысленная влюблённость в чувака, который тебе не светит.
А началось всё однажды весной в Иерусалиме. В конце февраля она въехала в этот город с раненым сердцем и мигренью, а в начале марта уезжала с ясной головой, но совершенно очарованная. Город вне времени, из нежного белого камня, золотистого по утрам и розоватого на закате; говорящий на непонятных языках, но очевидными знаками; пропитанный тысячелетней верой нескольких религий и беспамятной сиюминутной прелестью. Местные страшно важничают, рассказывая о том, какой Иерусалим своенравный, кого-то может невзлюбить или вовсе не впустить: известна история о еврейском филантропе, который физически не мог въехать в благословенную столицу, так и жертвовал всю жизнь миллионы из-за бугра. В самом деле, многие жалуются на гнетущее впечатление и безотчётную тревогу, накрывающую на здешних улицах, а в Старый город не стоит соваться под психоделиками, иначе бэд-трип гарантирован.
И потому Поль прислушивалась к себе с некоторым беспокойством, но в первые же минуты почувствовала необъяснимое веселье, пузырьки счастья в груди, газированную радость, которая не думала угасать ни на Виа Долорез, ни в храме Гроба, ни даже у Стены Плача. Как будто ей доподлинно сообщили, что смерти нет и всё почти можно. Пожелай, хорошенько сформулируй и напиши записку, поставь свечку, брось монетку – соверши любой ритуал, который тебе симпатичен, – и сбудется многое. Поль честно поискала своё настоящее желание и поняла, что как ни глупо это звучит для женщины её лет, но да – любви, счастливой и воплотившейся.
Неделя в городе пролетела, как медовый месяц, то есть очень быстро, и всё же медленней, чем обычные семь дней, потому что была наполнена до краёв.
А уезжать она решила через Тель-Авив – туда можно добраться на автобусе, посмотреть на море, а потом до аэропорта на электричке, выходило дёшево. Знающие люди посоветовали ехать до вокзала на севере, оттуда спускаться в порт, идти к югу, сколько душа пожелает, а дальше взять такси, сказать волшебные слова: «аХагана стэйшен» и платить по счётчику, а то обдерут.
У Поль с собой только ручная кладь, лёгкий чемодан на колёсиках – много ли надо на неделю, когда существуют кашемир, шёлк и курточки «юникло». И вот она уже идёт в любимых уродливых штанах-афгани по набережной, застеленной палубной доской, слушает шелест моря, ссору влюблённой парочки, перезвон яхтенного такелажа; смотрит на сизые волны, которые дотягиваются до неё тяжёлыми каплями, дышит солью и ветром.
Ничего толком не знает: где конкретно находится, какая это часть города, всё ли в нём такое и всегда ли? Этот Тель-Авив был пасмурным и чистым, другого могло и не случиться, и тогда он остался бы для неё городом чаячьих французских криков, деревянных настилов и холодного ветра. С мужчинами у неё иначе, с первого взгляда ясно, сварит он ей кофе с утра или так и останется посторонним. А тут ничто не предвещало отношений, было только понимание, что не про её честь вся эта иностранная жизнь, ведь не бывает более неприсвояемых вещей, чем города у моря, отделённые многими границами, большими деньгами, иноязычием и законами о пребывании. Да и вообще, с какой стати.
Поль тогда вернулась в Москву, погрузилась в работу, но всё не могла выбросить из головы ни небесный город, сложенный из белого камня, ни короткую прогулку вдоль моря, ни голос девицы, бесстыдно и горестно орущей любовнику: «Мёрд!» И к осени, когда встал вопрос о том, где скоротать ноябрь, её израильская сетевая знакомая спросила у себя на страничке, не хочет ли кто пожить в Тель-Авиве пару недель за умеренную плату. Поль хотела. Взяла билеты, прилетела и тут же с порога начала жить. Не было туристической отчуждённости и страха заблудиться, потерять деньги, нарушить неизвестные правила и влипнуть в неприятности. Она признала Тель-Авив как безусловно родной город – в том смысле, который вкладываешь в это слово, когда оно возвращается к тебе очищенным от жлобских смыслов. Так-то всё начинается с шансонных интонаций: «ну, здравствуй, мама рóдная», «привет, роднуля», «дай копеечку, родненький», и «родная жена не узнала его, проходя мимо нищего старца». Или с патетики: «мой самый родной человек!» – тревожащей душным бесцеремонным напором. Но когда раздражающие ассоциации отшелушиваются, остаётся единственно подходящее слово, чтобы обозначить спокойную, чуть безвыходную близость. Куда я от тебя, куда ты без меня? – да уж найдём, куда. Но всякая перемена будет означать прежде всего не новую жизнь, а то, что я теперь не с тобой, а ты не со мной. И с этим городом очень быстро выстроилась такая связь, что для Поль время разделилось на две неравные части, когда она в Тель-Авиве, и когда нет. А ведь говорили ей друзья: «Сочиняя записку в Стену Плача, указывай марку велосипеда». В том смысле, что нужно быть предельно точной в деталях, и просить взаимной любви с мужчиной, а не вообще. Вот и выпал ей возлюбленный город, теперь живи как знаешь. А Поль знала, у неё уже такое было, когда смотришь и понимаешь: с этим человеком (и с этим городом) тебе не жить. Но пока вы вместе, в воздухе стоит льдистый весенний звон, который получается, если радость заморозить отчаянием, а потом подбросить вверх. И всё время, пока она падает, светясь на солнце, и осыпает тебя с головы до ног, ты абсолютно счастлива.
После окончательного переезда Поль иногда пыталась возродить для себя ощущения тех первых туристических дней, когда Тель-Авив ещё не стал для неё единым живым организмом, а состоял из нескольких известных локаций. Для этого следовало посмотреть на него чуть со стороны, например, с волнореза на Буграшов. Там всегда стоит холодный белый стул для рыбака и в шабат бывает относительно тихо. Если сесть спиной к морю, лицом к городу, можно снова увидеть его глазами первых свиданий.
Таинственный винный в начале Алленби. От своей первой квартиры Поль ходила до него необычайно долго, уже отчаивалась и думала, что, скорее всего, привиделась лавочка, но вроде после всех этих Геул и Хесс где-то справа. Или нет, или да, и где я вообще? А-а, вот. Вся стена в бутылках и внизу обычно стоит странный чёрный абсент, которого Поль больше нигде не встречала, на стекле выступают купола, наверное, иерусалимский. Огня и магии в нём было больше, чем во многих чешских и французских сортах, кастрированных в пользу европейских законов. Однажды решила купить его перед отъездом, чтобы взять с собой и тосковать в снегах, и всё испортила: рассмотрела этикетку, а там мытищинский винзавод, ООО «Родник», «слушайте ваши „Валенки“», как в анекдоте.
Или Кинг Джордж, на которую Поль прибегала первым делом, сразу после самолёта, только въехав в съёмную квартиру и переодевшись. Какая невыносимая экзотика была в её смуглых прохожих, облезлых фасадах, в ярких цветных пятнах витрин. Поль купила там лёгкие серые туфельки, сделанные из вечерних сумерек и дермантина, они были билетом в тель-авивское здесь и сейчас. Казалось, иначе ткань реальности ускользнёт из-под ног, но стоит их обуть, как дорога примет тебя и понесёт сама.
Или яхтенная стоянка на севере, к которой можно приблизиться по узкому мостику, лечь у воды, где припаркован черный полицейский катер, услышать тихий звон такелажа, посмотреть на огни и осознать, что всё-таки прилетела.
Рынок, на котором знакомые лавочки исчезали, а потом внезапно находились на тех же местах. Единственный обитатель Кармеля, никогда никуда не пропадающий, – это продавец кнафе на перекрёстке с Рамбамом, остальные позволяли себе небрежение к привычной картине мира. Хоп, и нет никакой лавочки с пряностями на этом месте. Хоп, и снова на прилавке стоят ящики с имбирём, палочками корицы, розовыми лепестками, жгучим перцем и затаром, и как можно было не заметить, дважды пройдя туда-сюда?
Поль не помнила, как и когда появилась площадь Бялик, кто-то показал или сама нашла. Просто в один миг она образовалась на карте, в её сердце, в жизни, прелестная, как второй акт «Жизели», а вокруг неё уже начал отстраиваться остальной город, теперь не чужой. На неё Поль пришла и поселилась, а не в Керем а-Тейманим, где однажды захотела пожить и в самом деле теперь жила. Но именно в кувшинках возле старой мэрии завязалось первое ощущение родственности места, и потихоньку начало распространяться по улицам, как запах чубушника и франжипани, стекающий по Идельсон к морю.
Именно для этого приходила Поль на буграшовский волнорез – посмотреть на город глазами чужака, не знающего, что в этой кафешке с красной подсветкой раньше давали самый честный лонг-айленд на берегу, а теперь только лемонану. Что пальмы, похожие сейчас на обгоревшие спички, высадили недавно, и они почти прижились, но летом не вынесли жары. И что набережную скоро перестроят. Понятный город сливался в облако огней, морских запахов и женских голосов, и лишь после этого Поль возвращалась. Бесшумно шла по бетонному покрытию, перебиралась на поскрипывающую деревянную лестницу, чтобы звук её шагов тоже стал частью городского саундтрека, вместе с шелестом машин, дыханием моря, холодным ветром и чаячьими французскими криками.
Итак, Поль выбрала для жизни Тель-Авив, несмотря на первую очарованность Иерусалимом. Столица была прекрасна, но сердце её предпочло себе иной дом.
Дама из аэропорта всё-таки сумела встревожить, но не так, как ожидалось – смутила настойчивость. Неужели Поль хрестоматийно перепутала туризм с эмиграцией? Она с глубоким отвращением относилась к кухонному фатализму, согласно которому «Израиль/Мироздание/Судьба» дают человеку именно то, чего он ждёт, надо только захотеть и прочее – вряд ли кто-то выбирает быть голодным, больным и несчастным, откуда же они тогда берутся? Но первые встречи с Израилем отчасти подтверждали эту теорию: те, кто искал «тепла», получали заботливых русскоязычных тётушек с непрошеными советами, рыночных продавцов, делающих маленькие подарки, и просто много внимания от милых улыбчивых людей. Ищущие секса неизменно его находили и потом неудержимо хвастались или таинственно молчали, когда речь заходила об израильских мужчинах. Поль же хотела одиночества и свободы, и в Тель-Авиве обрела именно то, в чём нуждалась. Она могла целыми днями бродить по городу, ни с кем не заговаривая, выглядеть как угодно, разгуливая в пижаме или в красном платье – Поль двигалась сквозь толпу, как призрак среди живых, наслаждаясь впечатлениями и ощущениями. Ей даже не требовалось разговаривать, туристу для общения нужна только кредитная карточка и улыбка, и она делала вид, что не понимает по-английски больше, чем необходимо для прочтения меню.
Но вот переехала и первый же контакт в аэропорту показал, что напористых тётушек не избежать, ведь она теперь перешла в категорию тех, кому многое нужно от системы – документы, медстраховка, языковые курсы, финансовая помощь, счёт в банке, номер телефона. Не для того она в юности сбежала на вольные хлеба из маленького городка, где существовало некое «общественное мнение» – соседские кумушки, родственники, коллеги, под которых нужно подстраиваться. И теперь она отчаянно надеялась, что здесь сумеет проскользнуть мимо сетей социума и остаться свободной и невидимой.
Время показало, что у неё получилось, никто не стоял между нею и городом, она умудрялась фотографировать самые людные улицы так, что в кадр не попадало ни одного человека. Шла в толпе и смотрела поверх голов, видела дома и деревья, знала, как меняется освещение любимых стен в разное время дня и года. Помнила имена соседских собак, но не помнила их хозяев.
Как и положено, её выбор принёс свои последствия. Для неё не было и не могло быть здесь работы, потому что она не хотела ни с кем разговаривать, а значит, не могла выучить язык. Всё, почерпнутое на пятимесячных курсах, без практики благополучно вылетело из головы, и она привыкла любить город без голоса. Звуки – да, остались, но речь города состоит из уличных разговоров, которые звенят в течение дня рядом с каждым из нас, донося отдельные словечки, настроения, мимолётные сценки. Она же не понимала ничего из того, что слышала, и существовала среди гудения машин и кондиционеров, птичьих криков, музыки, песен, завывания ветра, шума моря, смеха и, да, болтовни, которая для неё приравнивалась к щебету.
Израильтяне – настоящие живые люди, которых Поль наблюдала в Тель-Авиве, – совершенно не соответствовали распространённым представлениям о евреях, штампам, принятым во всём мире. В России первой ассоциацией были ушлые выжиги с карикатур о сионистской угрозе – носы, лысины, животы, пейсы. А если худые, то хлипкие «еврейчики» на кабинетных должностях, пусть даже учителя и врачи – если не при деньгах, то при связях. Громогласные тётки, не выпускающие из толстых рук, унизанных золотом, своих слабохарактерных сыновей. Простецкие тёти Сони и Розочки из анекдотов, говорящие на чудовищном одесском суржике. Для более интеллигентной публики существовал вуди-алленновский персонаж: тощий немолодой невротик, рефлексирующий, имеющий маленькие извращения и авторитарную мамашу. «Евреи умные», – говорили о них, имея в виду несколько презираемый ум приспособленца или книжного червя.
Когда Поль впервые приехала в Израиль, она, конечно, не ожидала увидеть улицы, полные вуди алленов и тёть Сонь, но, чтобы не встретить их совсем?! Нет, если поехать в правильные места, можно отыскать кого угодно, но тот Тель-Авив, который она выбрала для себя, совсем другой. Интеллигентная, немного снобская публика на севере, хипстеры на юге, творческая тусовка в центре. «Аристократия» Неве Цедека, района, любимого туристами – там, конечно, можно не владеть ивритом, но, если при этом не знаешь парочки европейских языков, бровь местного жителя снисходительно приподнимается. В Керем а-Тейманиме, квартальчике возле рынка, неуловимо напоминающем о Барселоне, живут выходцы из Йемена, ближневосточные евреи, совсем непохожие на ашкеназов. А ещё есть эфиопские и марокканские евреи, принесшие с собой собственные традиции. Религиозные и светские, геи и натуралы, темнокожие и белые, бесконечно образованные и едва осилившие школу, сабры, рождённые в Израиле, и репатрианты – всё это евреи, которых невозможно причесать одной гребёнкой и найти среди них эталонных, правильных. Конечно, в Израиле есть и более однородные города, но Поль привязалась к Тель-Авиву именно потому, что там любая инакость незаметна на общем пёстром фоне. Она не искала своих, таких всё равно не существовало, и не потому, что Поль какая-то уникальная женщина. Просто она давным-давно выбрала не иметь своих, не соединяться со средой, где бы ни жила, скользить, не погружаясь, и быть незаметной, как серый городской кот. Не то, чтобы ей не хотелось тепла и близости, но опыт показал, что она этого не умеет. В ней то ли однажды что-то поломалось, то ли, наоборот, отросло нечто, отделившее её от мира прозрачным экраном. И что в Москве, что в Тель-Авиве, Майями или Флоренции, Рязани или Будапеште – везде она чувствовала себя посторонней на уровне органики. Но в Тель-Авиве ей больше нравилось.
На рынке она покупала хлеб у одного-единственного продавца в центре длинного торгового ряда. В его лавочке на цепях висят старые медные подносы с выпечкой, на прилавке лежит хлеб из темноватой муки с красным перцем, обваленный в тыквенных семечках – твёрдая коричневая корочка и воздушная мякушка. Поль никогда не могла дотерпеть до дома, и, хотя ненавидела есть на ходу, обязательно отламывала кусочек, едва отойдя от прилавка. Сыром торгует парень, говорящий по-русски, зовут его Стас, он здоровается с каждым покупателем так, будто знает его сто лет, и уже со второго визита советовал: «Возьми в этот раз козий камамбер», а с четвёртого перестал пытаться и взвешивает ей «как обычно», из коровьего молока. В соседней эколавочке продают травяные чаи, а в самом конце ряда весёлые эфиопы предлагают свеженькую нану и луизу – ничего пикантного, всего лишь мяту и вербену, но как звучит! Параллельно идёт мясной ряд, там вместо асфальта между прилавков лежит красное покрытие, «это чтобы не видно было кровь», мило улыбалась Поль, сопровождая потрясённых туристов. Теперь, живя в Тель-Авиве, она встречалась с московскими друзьями чаще, чем в России – все приезжающие в отпуск старались написать ей и пересечься хотя бы за чашечкой кофе. Было какое-то особенное очарование в том, чтобы сидеть под чужим южным небом и видеть перед собой физиономию из другой жизни.
Поль вспомнила, как её однажды накрыло такое же совмещение реальности. Тогда она была ещё гостьей, но уже имела в виду переезд, и потому решила проверить, каково в Тель-Авиве в самую макушку июля, когда в тени чуть за тридцать, а на солнце все сорок. Набрала с собой невесомых вещей, но почти ничего из московского летнего не годилось для здешнего расплавленного воздуха. Удобнее всего оказалась юбка, прожившая на тот момент больше десяти лет, из тонкой ткани с ярким цветочным рисунком, с безразмерным поясом и потому подходящая к повзрослевшей талии. Полотнище юбки потихоньку начало ветшать и рваться, но краски не потускнели.
И однажды, когда Поль шла в этих обносках с рынка, с дерева на неё медленно спланировал цветок франжипани, белая звёздочка с желтой серединкой, гавайская красотка, прижившаяся в Тель-Авиве. Она задела подол, и Поль вдруг поняла, что абстрактные цветочки на ткани, это именно она, франжипани, а конкретно – плюмерия тупая (ничего личного, Pluméria obtúsa). И Поль на всякий случай прислонилась к выбеленной стене, потому что это же какой-то бред кислотный: орнамент перестаёт быть плоским, выдёргивает тебя из прохладной северной юности в субтропическую зрелость и швыряет прямо посреди дороги под солнце, какого ты в жизни не видала.
В детстве она накрепко запомнила, что розовый Париж, сказочный Восток и бескрайний Нью-Йорк, конечно, существуют, но не для неё. Невозможность, которую даже хотеть глупо, и она не хотела. И когда выросла, путешествовала меньше, чем люди её круга – не только из-за аэрофобии, но и потому, что в глубине души не слишком верила во всякую экзотику. И вдруг она сейчас в этом квартале, несёт в правой руке стакан рыжего сока, который белокожий апельсиновый мальчик выжимает дешевле, чем все прочие; а в левой у неё пакет с горячими булочками, неприветливый колючий сабра даёт их три на десять. Идёт себе в дырявой цветастой одежде, и могла ли она десять или двадцать лет назад предположить всё это? Не могла, да и не хотела ничего такого для себя, ей тогда нужно было только любви, от того или от этого, всех имён уже не вспомнить.







