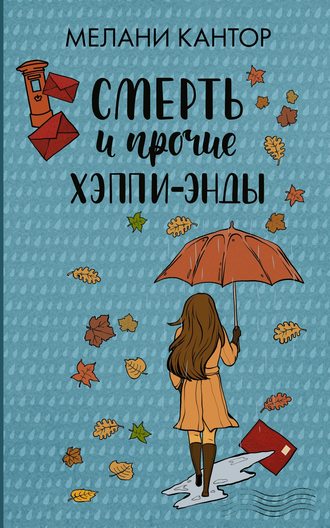
Мелани Кантор
Смерть и прочие хэппи-энды
Посвящаю моим маме и папе,
Дорин и Эдди, приглядывающим за мной с облаков,
и моим сыновьям,
Александру и Джозефу, счастливым продолжениям меня.
Кто-то скажет нам, что с момента нашего рождения мы начинаем двигаться к смерти. Поэтому мы должны жить в полную силу каждую минуту каждого дня. Сделайте же это – так я скажу. Что бы вы ни хотели, сделайте это сейчас! А иначе останется слишком много на «завтра».
(Слова, приписываемые папе Павлу VI)
Melanie Cantor
DEATH AND OTHER HAPPY ENDINGS
© Melanie Cantor, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020
Часть 1
Как всё начиналось
В мире есть люди, с которыми случаются разные штуки. Я не из их числа. Я веду размеренную жизнь, делаю обыкновенные вещи. Не сказать, что моя жизнь скучна, но это и не жизнь, полная историй из разряда «вы-не-поверите-что-со-мной произошло!». По крайней мере, так было до сих пор. До того, как все случилось. А это реально случилось…
– Вы сейчас с кем-нибудь встречаетесь, Дженнифер?
Я виновато улыбаюсь:
– Нет, я все еще одинока. – Я ерзаю в кресле. Ненавижу подобные вопросы. – Я иногда хожу на свидания, доктор Маккензи, но я не особо в ладах со всеми этими интернетными штучками, сайтами знакомств… – Бросив взгляд на его лицо, я неловко хихикаю: – Вы ведь не это имели в виду, да?
– Не это, – отвечает он, почесывая подбородок. – Здесь сегодня вы с кем-то?
Меня это слегка сбивает с толку. На секунду кажется, будто он собирается сообщить, что у меня ЗППП, что по крайней мере объяснило бы мой страх перед общественными туалетами.
– Зачем? – спрашиваю я. – А должна бы?
– Вам не помешала бы поддержка. Я просил секретаря передать вам это.
Кажется, секретарь говорила что-то такое. Я еще подумала, что у нее не все дома.
Доктор снимает очки со стальной оправой и потирает ладонями глаза.
– Мне очень жаль, Дженнифер. У меня плохие новости. У вас редкое заболевание крови.
У доктора мрачное лицо. Я никогда прежде не видала у него такого выражения.
В моих ушах стучит. Кажется, комната вокруг начала пульсировать.
Я пытаюсь сосредоточиться на лице доктора, на том, как он щиплет свою переносицу, испещренную венами кожу. Он искоса смотрит на меня, будто проверяя мою реакцию, а потом произносит какое-то непонятное название.
Я успеваю уловить только окончание – «…озис».
– Что это значит?
Вспоминается урок биологии, длинная и сложная лекция про тромбоциты и борьбу белых кровяных телец с красными тельцами. Я никогда не была особенно сильна в этой теме, а уж тем более теперь, когда целый мир пульсирует вокруг меня.
– Звучит как-то недружелюбно, – говорю я.
– Да, – бормочет доктор, – очень недружественно и агрессивно. – Он крутит в руках бумаги, выстукивая ими по столу какой-то мотив. Потом откашливается и добавляет: – И неизлечимо.
Я не уверена, что правильно его расслышала.
– Я не совсем понимаю…
– Я тщательно изучил этот вопрос, Дженнифер. Это редкое заболевание, большинство гематологов в нашей стране не встречают его за всю свою карьеру. Боюсь, что нет такого лечения, как, скажем, химиотерапия. Это ведь требует времени. – Его челюсть дергается влево, а затем возвращается назад, словно подвешена на резинке. – А я не уверен, что оно у вас есть. – Он кашляет. – В лучшем случае три месяца.
Повисает тишина. Он реально только что это сказал?
Нет, наверно, это ошибка, недоразумение. Или какое-то мошенничество, как бывает в заведениях с сомнительной репутацией, когда тебе норовят записать в счет лишнюю бутылку вина, надеясь, что ты ничего не заметишь.
В моих ушах стоит звон. Я стараюсь игнорировать желчь, подступающую к горлу, но у меня не получается.
– Доктор Маккензи, – выдавливаю я из себя, – боюсь, меня сейчас вырвет…
Он бросает на меня панический взгляд, а потом неловким движением пожилого человека лезет под стол, задев его локтем:
– Ох!
Мне кажется, что я чувствую его боль от ушиба.
Выпрямившись, доктор протягивает серое металлическое мусорное ведро, я беру его и устремляю взор внутрь.
Он деликатно ждет.
Я всем существом сосредотачиваюсь на ведре. Среди скомканных бумажных шариков лежит выброшенная обертка от «Сникерса». Меня тошнит, а затем рвет. В голове будто стучат барабаны. Доктор Маккензи протягивает мне несколько салфеток и стакан воды, стоявший на столе.
– Не торопитесь, – говорит он.
Обычная фраза для человека, у которого впереди полно времени. Но у меня его теперь нет.
Я отпиваю немного воды, пытаясь уложить в голове услышанное.
– Так вы не думаете, что стоит начинать лечение?
– Я навел некоторые справки по этому поводу, Дженнифер, но не хочу вызывать у вас ложных надежд. И должен предупредить – это лечение чисто паллиативное. – Его голос парил в едком воздухе, обрывками оседая в моем сознании. «Даже если… Это может только…» Эти слова грохочут в моих ушах. Я не хочу их слушать.
Стены его кабинета давят на меня, серые и мрачные, лишенные индивидуальности. Как и он сам.
Он был моим врачом на протяжении тридцати лет – моим семейным доктором, – а я знаю о нем не больше, чем об этих серых стенах.
Ну, вероятно, он жует «Cникерсы» на обед.
В кабинете нет ни одного семейного фото или снимка домашнего питомца, или хотя бы анатомической схемы.
Не висит даже ни одного из тех ужасных постеров, призывающих вас бросить курить, – не то чтобы я сама курила, но все же было бы мило с его стороны повесить на стену что-нибудь отвлекающее внимание.
Я не знаю, что сказать. А сам доктор, кажется, заканчивает. Его голос не внушает энтузиазма.
– Я просто пытаюсь быть честным с вами, Дженнифер, – произносит он, водружая очки обратно на нос. – Вы должны знать прогноз. Вам нужно быть готовой.
К чему, доктор?
– Спасибо, – говорю я.
Доктор Маккензи встает и открывает окно.
Я таращусь на бледный виниловый пол, вращаясь в поворотном кресле туда-сюда. Тут я осознаю, что все еще сжимаю мусорное ведро, и ставлю его на пол, подальше от своего носа.
– Но, доктор Маккензи, вы уверены? Я имею в виду, я чувствую просто… усталость. Не боль, просто усталость. И, может, я стала немного одутловатой. Вы уверены, что это не какое-нибудь ОРВИ, или ОРЗ, или что-то в этом роде?
Звучит так, будто я прошу поменять мне диагноз на одну из этих аббревиатур. Ну да, прошу! Что-нибудь вместо этого проклятого «озиса».
– Результат вашего анализа крови у меня здесь, Дженнифер, – произносит доктор, держа в руках стопку бумаг, как улики обвинения. – Мне бы очень хотелось сказать вам что-то другое, но боюсь, это не соответствовало бы истине.
Ну вот, просьба отклонена. Он устало вздыхает, а затем озвучивает приговор:
– Мне правда очень жаль. Мне бы хотелось, чтобы вы пришли раньше.
Я мысленно охаю.
Мне сорок три года, и мне только что сказали, что я не доживу до сорока четырех, потому что пропустила все сроки. Мне хочется плакать.
Нет!
Я не стану плакать.
Я не могу. Меня так учили. Я работаю в отделе кадров и должна скрывать свои эмоции. Кроме того, эта сцена явно тяжела для доктора. Нет нужды делать ее еще тяжелее.
– Мне тоже жаль, – откликаюсь я.
Доктор передает пачку брошюр через стол, как крупье фишки.
– Это может вам пригодиться, – мягко говорит он.
Я сухо улыбаюсь и небрежно смахиваю их в сумочку (честно говоря, я предпочла бы бросить их в мусорное ведро), глядя, как он выписывает рецепт.
– У фармацевта за углом все есть. Это должно помочь вам пока.
– Пока, – повторяю я, поняв зловещий смысл этого слова.
Я изучаю прыгающие каракули, надеясь на неожиданную удачу: валиум, или кодеин, или знакомый препарат из прежней маминой аптечки, ее ценной коллекции всего, что только могло понадобиться (особенно ей). Ничего знакомого.
– От чего они?
– Они помогают от усталости. И от боли.
Я гляжу на врача с любопытством и оттенком вежливого сомнения.
– Но…
Его губы вздрагивают.
Я понимаю, что это означает: читай инструкции.
Он откашливается и поднимается с места с резкой решимостью.
– Нам с вами нужно будет скоро снова встретиться. Юнис в приемной выберет вам какую-нибудь свободную дату, так что, пожалуйста, поговорите с ней на выходе. И не забудьте взять рецепт, дорогая.
Он назвал меня «дорогая». Он никогда раньше не называл меня «дорогая»! Я определенно скоро умру.
Доктор обходит вокруг своего стола и провожает меня до двери, что очень мило с его стороны, поскольку обычно я провожаю себя сама, а затем по-отечески хлопает по плечу.
– Извините за ведро, доктор, – напоследок говорю я.
Отсчет пошел: 90 дней
«Юнис в приемной выберет вам какую-нибудь свободную дату» – только этих дат мне и остается теперь ожидать.
Я обхожу стороной стойку регистрации – в любом случае я не знаю, кто из этих женщин Юнис, – и я просто не смогла бы подойти к ней сейчас.
Я прихожу домой. Наверно, прихожу. Я уже дома.
Это как проснуться с похмелья и обнаружить, что даже в сильном подпитии ты сумела добраться до своей квартиры и выполнить все обычные повседневные действия: положить ключи от входной двери в нужное место, смыть макияж, поставить телефон на зарядку.
Но вот только ты не помнишь ничего из перечисленного.
Вот на что был похож мой путь домой.
Я даже не помню, как заходила в аптеку, однако бумажный бело-зеленый пакет на моей кухонной столешнице подсказывает, что я это сделала. Там же стоит маленькая бутылка виски. Обычно я не пью виски, однако в помутнении разума вполне могла решить, что сейчас это то, что нужно.
Удивительно, какие рациональные решения можно принимать в совершенно иррациональном состоянии.
Теперь я сижу с чашкой чая в руках и пытаюсь восстановить в памяти вчерашний вечер. И никак не могу это сделать.
Может, в последние месяцы у меня развился лунатизм?
Меня начинает слегка трясти. От чего, интересно? Из-за паразита в моем теле, который сожрал все мои надежды на будущее, потому что я заметила его слишком поздно? Потому что я не относилась к своей усталости всерьез…
Что же мне теперь делать? Сидеть и ждать?
Где сейчас моя мама, когда я так нуждаюсь в ней?!
Я все еще не могу заплакать.
Наверно, это странно, что не могу. Просто я чувствую – не сейчас.
Возможно, мои слезные протоки до сих пор отказываются во все это верить?
Очевидно, я нахожусь на первой стадии горя, и эта стадия – отрицание.
Какая следующая? Гнев? Возможно.
Я чувствую, как он сидит и ждет за кулисами. Но не сейчас, гнев. Мне нравится отрицание. Пока…
Мне следует быть реалистом.
Я должна собрать всю возможную информацию и понять, что этот «озис» означает (я никогда не назову это полным названием – не удостою незваного гостя такой чести).
Я решаю прочесть бумаги, лежащие в сумочке, а затем загуглить мою новую мерзкую компаньонку-болезнь, хотя и сознаю связанные с этим опасности. (У меня однажды довольно долго кололо в руке, я погуглила и с ужасом поняла, что это рассеянный склероз. Естественно, это оказалось чушью.) Но Гугл едва ли испугает меня больше – куда уж больше! – так что не лучше ли подготовиться? Я иду за инструкциями, но затем останавливаюсь на обратном пути, выпустив сумку, и она выскальзывает из моих рук, словно живая.
Я не могу этого сделать.
Решимость меня покинула.
Если узнать слишком много, может, это только ускорит появление симптомов? Тех самых, которые могли бы проявиться позднее, если бы о них не догадывались?
Например, если прочитать про возможные побочные эффекты препарата и выяснить, что от него бывают спазмы в желудке, диарея, раздражение кожи или депрессия, то они у вас возникнут еще до того, как вы начнете принимать это проклятое лекарство.
Я мысленно кричу: Господи, если ты существуешь, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста, скажи, что мне делать.
Я растеряна.
Я напугана.
Я умираю…
Должно быть, в какой-то момент я заснула, потому что просыпаюсь, как по щелчку, свернувшись калачиком на диване, замерзнув и с тяжелой головой.
Честно говоря, это мое обычное состояние после такой кратковременной дневной дремоты, однако сейчас это ощущение ужасает меня.
Я немедленно чувствую себя больной, хотя и не испытывала ничего подобного до того, как узнала о диагнозе. Нет, я не должна этого делать…
Но вот наконец это происходит.
Я плачу.
Плачу с осознанием, что меня никто не услышит, и с горячим желанием быть услышанной.
Мне хочется, чтобы кто-нибудь пришел и поддержал меня, и сказал, что все будет хорошо.
Но я одна…
Неожиданно я чувствую дискомфорт оттого, что одинока. Ощущаю свою уязвимость и незащищенность.
Но ведь, помимо всего прочего, я прагматик! Я люблю составлять различные списки. Может, это способно помочь?
Я вытираю глаза, сморкаюсь, прекращаю шмыгать носом и хватаю со стола бумагу и ручку.
Посмотрим, что в этой ситуации можно найти позитивного:
1. Я могу больше не страдать из-за всякого дерьма. И, будем откровенны, прямо сейчас наш мир – довольно-таки дерьмовое место. Без Боуи[1], без Леонарда Коэна[2], без Майи Энджелоу[3]. Только правила, политика и бизнес – и никакой поэзии.
2. Я прожила на 12 лет дольше своей подруги Ванессы. Ванессе был 31 год, когда она умерла, а я успела чертовски много за 12 лет, которых у нее никогда не было.
3. Я не заполучу болезнь Паркинсона, как мой отец. Или Альцгеймера, как моя мать. У меня не будет глубоких морщин, или обвисшей груди, или зубов, которые выпадают при одном упоминании о яблоке. И возможно, меня запомнят как героическую страдалицу, ушедшую слишком рано. Приятно будет думать в таком ключе. Надеюсь, меня забудут не слишком быстро.
4. Я не боюсь смерти. Я наблюдала за этим процессом. Я находилась рядом с Ванессой, когда она умерла. Это была вполне умиротворяющая картина. В чем-то даже величественная. Я была рядом с отцом, а затем, двумя годами позже, – с матерью.
Знаете, есть те, кто держит умирающих за руку, и есть те, кто выходит из комнаты – как моя сестра, например.
Я держала их за руку.
Но кто придет подержать за руку меня?
КТО?
У меня нет детей. Три моих выкидыша – вот причина того, что мой муж, Энди, стал бывшим мужем.
Полагаю, моя печальная замкнутость и отстраненность после каждой потери заставляла его чувствовать себя лишним.
Я могла бы разделить с ним свою печаль, если бы он попросил, но он никогда не просил. Он просто смотрел по сторонам.
На Элизабет, например.
Могло ли бы все сложиться по-другому, если бы я позволила ему скорбеть вместе со мной? Я не знаю.
Иногда мне хочется перемотать пленку назад… И никогда не хотелось этого больше, чем сейчас.
Субботним утром я вместе со своей печалью еду в Кентиш-таун и покупаю в местном магазинчике настенный календарь, где каждый месяц иллюстрирован картинами английских художников. Я могла бы купить другой – с изображением Тэйлор Свифт, – но нахожу ее слишком живой и полной жизни, и это кажется мне неуместным.
В моих ушах снова звенят слова доктора Маккензи. Три месяца… в лучшем случае.
Я отрываю в календаре листы с января по август (право, этот экстравагантный мусор не стоил 50 фунтов), остановившись на пейзаже Гейнсборо[4]. И начинаю обратный 90-дневный отсчет, игнорируя жалкое предостережение: «в лучшем случае». Это как рождественский календарь без сладостей. Если повезет, я доскриплю до Рождества… Но давайте не будем сентиментальными. Это не научное исследование, это руководство. И стимул. Что-то, что побудит меня выжать лучшее из каждого дня, – и, кто знает, может, я сумею преодолеть отметку дня Х. Возможно, я даже встречу Новый год?
Я вешаю календарь на шкаф в своей спальне. Два крестика.
Сегодня последний день сентября – короткого месяца, который теперь кажется еще короче.
Гейнсборо уйдет прочь завтра, а послезавтра уже настанет день 88-й.
Я стараюсь убедить себя, что буду активной и встречусь со своей болезнью лицом к лицу, но на самом деле сознаю, что это одна из форм прокрастинации. Отвлечение от моего первого препятствия – разговоров с людьми.
Потому что, как бы я ни пыталась это отрицать, как только я кому-то расскажу – это станет окончательно реальным.
А прямо сейчас отрицание кажется лучшим выбором.
День 87-й
Утро понедельника.
Я тащусь в офис, намереваясь рассказать все своему боссу, что кажется разумным началом с точки зрения иерархии, но когда доходит до дела, я просто не могу заставить себя говорить. Фрэнк наименее симпатичен мне из всех знакомых, поэтому, возможно, стоило начинать не с него.
– Ну, выкладывайте, – говорит он.
– Э-э… – я пытаюсь выложить, но не могу. Выражение его лица вызывает у меня некоторую нервозность, так что даже хочется повернуться на каблуках, выйти за дверь, потом зайти и начать заново, обретя свою обычную уверенность.
Вместо этого я застываю как вкопанная, чувствуя, что в горле пересохло, а язык с трудом слушается.
– Я… я не хотела вас беспокоить, но в последнее время я чувствую какую-то усталость. Не совсем обычную, по сути.
Он бросает на меня Классический Взгляд Фрэнка, который как бы говорит: «Мы все устали. Соберись».
Это вымораживает меня.
На секунду мне кажется, будто часть меня отделяется от тела и смотрит на происходящее со стороны. И слышит, как я выбиваюсь из привычного сценария.
– Я… я думаю, мне нужен отпуск, Фрэнк.
Он складывает руки на груди:
– Ну, подайте заявление на отпуск. Вы знаете весь порядок – вы писали его.
– Да… но… нет! Вы правы. Я подам. Я просто подумала, что должна предупредить вас.
Я поспешно покидаю его кабинет, чувствуя себя выжатой как лимон. Понятия не имею, почему я оказалась такой трусихой!
И задаюсь вопросом – стоит ли мне пересилить себя и рассказать все Пэтти, моей лучшей подруге на работе.
Мы обе пришли в эту компанию в один и тот же день шестнадцать лет назад. Кажется, что это было вчера, и одновременно – что с тех пор прошла целая жизнь.
Пэтти тоже разведена, только у нее есть сын, который учится в университете. Мы проводили много времени вместе, якобы для обсуждения дел компании, однако после бутылки-другой вина переходили к болтовне о наших личных неурядицах в отношениях. Мы определенно приятельницы по работе, но, как и шампанское, дружба иногда выплескивается за край.
Я прохожу мимо ее кабинета и, остановившись в сомнениях напротив двери, замечаю, что она говорит по телефону. Она ловит мой взгляд и машет мне: мол, выпьем чаю?
Однако какой-то невидимый барьер удерживает меня за дверью, и я не могу войти. Вместо этого я смотрю на часы и качаю головой.
Вернувшись в свой кабинет и принявшись вышагивать взад-вперед, я решаю, что не струсила – просто не захотела тревожить Пэтти. Это правильно, что я ничего ей не сказала. Она не смогла бы нести груз моей тайны в одиночку. Это было бы слишком тяжело для нее – хранить этот секрет (каждый хочет разделить тайну с другим, это свойство человеческой натуры). И если бы я сказала ей, особенно раньше, чем Фрэнку, это стало бы ошибкой. Пока у меня нет очевидных признаков болезни, я могу держать свою новость при себе. И может, если я буду вести себя как обычно, то поверю, что я в норме, и смогу избавиться от симптомов, просто игнорируя их? Я сижу за своим столом, уставившись в экран компьютера, и гадаю, что же означает «норма» сейчас.
Я пытаюсь думать о том, что обычно занимало мои мысли.
– Дженнифер?
Выйдя из оцепенения, я поднимаю взгляд от экрана:
– О, Дебора! Извините! Задумалась, ничего вокруг не вижу.
На моем пороге стоит Дебора Пивор, ассистент Итана из айти-отдела. Она работает у нас уже два с половиной года – сразу после окончания университета. Ноттингем. Степень бакалавра в социологии. Разорвала помолвку с Полом, другом детства, ну да в любом случае она еще слишком юна для замужества.
По крайней мере, мой мозг еще работает, думаю я. Несмотря на то что я в смятении, я все еще держу в памяти эту информацию. Она промелькнула в моей голове наподобие титров в теленовостях. Опять же, это плюс, если ты работаешь в отделе кадров.
– Я вас не оторвала от работы? – спрашивает она. – В смысле, я понимаю, что мы не договаривались о встрече, но вы не против, если я войду? – Лицо у бедной девушки пунцово-красное, а шея выглядит втянутой в плечи. – По личному делу.
– Конечно, – отвечаю я немного резковато. – Для этого я и здесь.
Она колеблется:
– Вы в порядке? Я имею в виду, если это неподходящий момент…
Я осознаю, что отныне любой момент оставшегося мне времени для этого неподходящий, поэтому решаю по крайней мере выяснить причину ее визита и, надеюсь, избавить хотя бы одну из нас от страданий.
– Все хорошо, Дебора. Я была погружена в документы. Расскажите мне все.
Дебора входит в кабинет, садится напротив меня, а потом вдруг заливается слезами.
– Не спешите, – говорю я, пододвигая к ней коробку с бумажными салфетками. Дебора хватает одну и зарывается в нее лицом. Мне хочется обнять ее – не могу смотреть, когда кто-то плачет, – но это было бы сейчас неуместным. Моя работа лишает возможности реагировать на эмоции так, как отреагировал бы друг.
Я должна оставаться на своем месте, сдержать чувства и соблюдать правила компании, потому что в работе не могу поддаваться чужим эмоциям.
– Извините, – всхлипнула Дебора.
– Не извиняйтесь.
Она смотрит на меня, страдальчески скривив рот.
– Я хочу подать официальную жалобу на Итана. Он совершенно перестал себя со мной контролировать. Начал оскорблять.
Она вздрагивает.
Серьезно? Итан Веббер?
Работает в компании семь лет. Три повышения. Тихоня. Компьютерный задрот. Глава шахматного клуба. Я бы не подумала, что он способен на такое.
– Не могли бы вы описать эти оскорбления, Дебора? – Я делаю пометки в блокноте. – Физические?
– Словесные.
– Поясните, пожалуйста, что он сказал.
Она издает мучительный стон:
– Он сказал мне то, что нельзя повторить.
– Вы должны передать мне его слова, Дебора.
– Я не могу.
– Вы можете произнести по буквам?
Она делает глубокий вдох, и ее губы растягиваются в отвращении: «СУ-КА…»
– Понятно, – говорю я.
Ух ты! Итан. О чем он думал? Ладно.
Когда я упомянула, что работаю в отделе кадров, вас, вероятно, потянуло на зевоту, но на самом деле это довольно интересная работа.
Вы оказываетесь вовлеченными в жизни людей, получаете представление об их образе мыслей. Видите плохие и хорошие стороны. И еще нужно быть стратегом. Это сложнее, чем вы себе представляете.
К тому же, когда ситуация позволяет, вы можете бороться за справедливость. И это для меня самое важное. Справедливость в мире несправедливости.
И сейчас я озабочена справедливостью для Деборы.
– Послушайте, Дебора. Я не оправдываю его оскорбление, но это так не похоже на него. Есть соображения, почему он сказал это вам?
Она кашляет:
– Да.
Я жду.
Она делает глоток чаю, смущается:
– Я удалила важный файл, а затем запаниковала и обвинила в этом его. Я имею в виду… его можно восстановить, ради Бога… Нам нужен только один из техников-специалистов.
– Я понимаю, Дебора, правда, понимаю. Это не дает права на такую реакцию.
Я говорю сочувственно. Затем объясняю различные последствия официальной жалобы. Это не то, что стоит делать необдуманно.
Она слушает, несколько раз порывается возразить, затем бросает на меня удрученный взгляд и пожимает плечами:
– Да уж. Простите, Дженнифер. Я думаю, мне просто нужно было выпустить пар. Выплакаться в дамском туалете либо пойти к вам. Вы выиграли. – Она выдавливает улыбку.
– Спасибо, – говорю я.
– Так… Наверно, мне стоит просто оставить все как есть?
– Нет, вовсе нет! – возражаю я. – Нам совершенно неоходимо с этим разобраться. Пустить все на самотек – это не то, что я имела в виду. Нет, я поговорю с Итаном.
– Это так неловко.
– Поверьте, это будет менее неловко, чем при подаче официальной жалобы. Вы заслуживаете извинений. Я добьюсь этого. И возможно, если вы чувствуете, что это продвинет дело, я устрою для вас обоих беседу в этом кабинете. Чтобы он мог официально извиниться. Если откровенно, я думаю, что он уже раскаивается, хотя мне все равно нужно потолковать с ним.
Дебора вздыхает:
– Тогда ладно. Если вы считаете, что так будет лучше…
– Считаю. А сейчас – почему бы вам не пойти домой? Я поговорю с Итаном. Затем вы оба успокоитесь, и завтра мы все уладим. Полагаю, он никогда не говорил так с вами раньше?
– Никогда.
– Все будет хорошо. Идите домой.
– Вы правы. Спасибо. – Дебора встает. – И я буду рада поговорить с ним завтра. Я сожалею, что спровоцировала его. Думаю, я просто устала…
– Если честно, Дебора, я отлично вас понимаю.
– Да. – Она улыбается, не обращая внимания на иронию. – И спасибо за этот разговор, Дженнифер. Я знаю, насколько вы заняты. Я правда это ценю.
Я наблюдаю, как она выходит из кабинета, и думаю о том, что «сука» звучит не так плохо по сравнению с «редкой болезнью крови». Интересно, будут ли мне теперь казаться банальными все чужие проблемы и травмы?
Так или иначе, на короткое время, погрузившись в неприятность Деборы, я забыла о собственной проблеме. Мне приходит в голову, что я должна работать так долго, как только смогу. Я должна постараться забыть о себе. Однако, надо думать, это непросто.
– Ты привыкнешь к этому, – говорю я вслух, обращаясь к себе.
И вздрагиваю.
Господи! Теперь я разговариваю сама с собой.
Я начинаю сходить с ума…
Я должна кому-нибудь рассказать! Не могу больше держать это в себе. Мне необходимо избавиться от этого самого мрачного из возможных секретов.
Бедная Оливия! Чего только иногда не приходится терпеть лучшим подругам… Мне жаль…
Я быстро набираю ей сообщение прежде, чем снова начну сомневаться, чтобы не было возможности сдать назад:
«У меня непростая новость. У тебя будет время заскочить вечером?»
Я меряю шагами кабинет. Постоянно проверяю экран телефона. Убеждаюсь, что батарея не села и мобильный не в беззвучном режиме. Десять минут словно растянулись на десять часов.
Динь-динь!
«Конечно. Насколько непростая? Принести тортик?»
«Да ((»
«Ох-х. У меня встреча, которая должна закончиться в 18.30, а потом сразу приду. Чизкейк?»
Если откровенно, торт – последнее, что мне нужно, но я думаю, что он может потребоваться Оливии.
«Прекрасно».
Я пока не могу отказаться от этого стиля общения.
Вернувшись домой, я долго глазею на свое отражение в зеркале ванной, словно проверяя, что это действительно я. То же отражение я видела вчера, и позавчера, и позапозавчера. Но сейчас я уже не такая. Все изменилось. И правда заключается в том, что я все еще не могу это принять. Я цепляюсь за отрицание, потому что оно безопаснее. Кто посмеет упрекнуть меня в этом? Но я должна открыться хоть кому-то. И под конец дня, когда вы одиноки, это то, на что подписывается лучшая подруга: в беде или в радости, в болезни и в здравии.
Оливия стоит на моем пороге, тяжело дыша, как будто бежала всю дорогу от офиса. Ее темно-рыжие волосы небрежно собраны на затылке, открывая раскрасневшиеся щеки.
Она одета в белую рубашку, открытый плащ и шелковые брюки цвета хаки с красной отделкой по бокам, подчеркивающие ее длинные стройные ноги.
Оливия работает в индустрии моды, что всегда было кстати, потому что я ходила с ней на все распродажи. Так что, хоть я и застряла в стиле офисных костюмов, по крайней мере они все были прекрасны. Обратите внимание, что я уже использую прошедшее время!
Оливия протягивает мне коробку, перевязанную лентой.
– Чизкейк, – поясняет она. – Что стряслось? Выглядишь дерьмово. Без обид.
– Я не обижаюсь. Хочешь выпить?
– Да. Чай. Бильдерс[5], пожалуйста.
– Я имела в виду настоящую выпивку.
– С чизкейком?
– У меня есть закуска.
Оливия глядит на меня с подозрением:
– Сейчас не подходящее время для чизкейка, да?
– Не совсем.
– Ты меня пугаешь.
– О, не волнуйся. Это не так ужасно, – лгу я, потому что ощущаю ее возникшую нервозность. Я не уверена, что должным образом подготовила Оливию к своему откровению. Да и разве к такому можно как следует подготовить? – Виски?
– Черт, дорогая! Мы же не пьем виски! Что происходит, Дженнифер? Тебя уволили?
– Сначала выпьем, – настаиваю я на своем. – И меня не уволили.
Мы наливаем себе в стаканы на два пальца односолодового виски, перемещаемся с ним из кухни в гостиную и садимся друг напротив друга.
Оливия пристально смотрит на меня:
– Мы поболтаем о погоде или перейдем сразу к делу?
Мою шею сводит спазм. Губы не двигаются. Я отпиваю виски для «голландской смелости»[6]. Что вообще означает это выражение – «голландская смелость»? Я пытаюсь подобрать определение.
– Дженнифер?
– Извини. Извини. Давай перейдем сразу к делу.
И я начинаю. Будто ныряю с самого высокого трамплина в бассейне, когда сердце трепещет и желудок подпрыгивает к горлу. Я в свободном падении, в ожидании шлепка о воду.
– Помнишь, на днях я ходила к доктору?
– Да…
– Ну, я получила результат моего анализа крови. Я думала, он скажет мне, что у меня дефицит железа или что-то в этом роде, но вышло так, что у меня необычная болезнь крови.
Оливия втягивает голову в плечи.
– О-о, – бормочет она. – Мне так жаль…
– И это в последней стадии.
– Шутишь!
– Хотелось бы.
Она молчит, ожидая продолжения.
А я не знаю, как отреагировать на это молчание. Интересно, есть ли какие-то советы по этикету, которые помогали бы друзьям в подобной ситуации?
– Господи, Джен! Ты серьезно?!
Она хватает меня за руку, мы смотрим друг другу в глаза и ошеломленно молчим, как будто кто-то нажал на кнопку паузы.
Затем этот кто-то нажимает кнопку «пуск».
– Мне так жаль, Джен… Я даже не знаю, что сказать…
– Я тоже не знаю, – говорю я. Отпускаю ее руку и беру свой бокал, потому что хочу как-то разрядить атмосферу неловкости.
– Тебе нужно узнать второе мнение, – решительно произносит она, выпрямившись, словно готовясь к схватке. – Нам надо найти лучшего специалиста по крови в стране. В мире!
– Признаться, я бы так и сделала, но доктор Маккензи тщательно изучил этот вопрос. Это невероятно редкое заболевание. И если нужны какие-то доказательства его правоты, то моя мать называла его нашим «золотым самородком», лучшим диагностом, которого только можно найти, и в ее словах не было резона сомневаться. К тому же я не уверена, что на это есть время.
Оливия хмурится:
– Конечно, есть. О каком сроке мы говорим? Это вообще обсуждалось?
– Это какие-то месяцы, Лив. Три. В лучшем случае.
Она зажимает рот рукой:
– Нет! Серьезно? Считая с этого дня?
– С этого дня. Ну… я чувствовала усталость.
Ее лоб перерезает морщина. Оливия поджимает губы:
– Дженнифер?
– Да?
– Ты плакала?
Я указываю на синяки под моими глазами:
– Все выходные. Думаю, я выплакала все, что можно. Я переплакала.
– Почему ты не позвонила мне? Почему плакала в одиночку?
Я пожимаю плечами:
– Не знаю. Я как будто застыла в своей панике. Ты думаешь, что сделаешь это – протянешь руку своей лучшей подруге, возьмешь телефон… Но ты не делаешь. По крайней мере, я не сделала. Не смогла.
Оливия наконец не выдерживает и сама издает мучительный всхлип:
– Мне так жаль… Так невероятно жаль… Ох, Дженнифер. Что я буду делать без тебя? Я не должна плакать, ведь ты такая смелая и…


