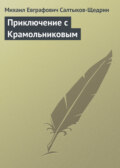Михаил Салтыков-Щедрин
Чижиково горе
– Вы скупой? – спросила его Прозерпиночка.
– Я не скуп, а бережлив-с, – ответил чижик. – Я так полагаю: зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить-с.
Высказавши это, майор любезно шаркнул ножкой, но – увы! – поступок этот не только не тронул Прозерпиночку, но, напротив, пробудил в ней новый взрыв веселости.
– Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще… вот так! Ха-ха! Что же вы дома едите? гадость какую-нибудь?
– Сам я ем пищу, богом предназначенную. Простую, но здоровую. А для вас я канареечное семя предоставлю-с.
– Ах, нет, я салат больше люблю!
– И салатцу достать не диковинка-с. Слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету-с. Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и задаром спроворю!
– Ну, а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали… подарите-ка! а?
– С превеликим моим удовольствием-с. Сегодня же пауку закажу, чтобы завтра чуть свет были готовы.
– Да, но ведь такие манжетки дороги…
– Не извольте беспокоиться-с! Придет ко мне ужо паук за деньгами, а я его съем-с. Вот мы и будем квиты.
– Ха-ха! какой вы уморительный!
Так и пошло у них: нет, чтобы сказать жениху «миленький» или «душечка», – «уморительный», и больше ничего. И чем дальше, тем невеста делалась развязнее и развязнее. С женихом почти вовсе не занималась, а окружала себя юнкерами и гимназистами и самым бессовестным манером шушукалась с ними.
– Знаете ли, майор, что мне про вас рассказывали? – говорила она ему в упор, – что вы в последнюю войну армию и флот гнилыми сухарями кормили?
Он конфузился, но не опровергал; потому что хоть и не заведовал он сухарями, но все-таки был за ним грех: для лошадей сено со всячинкой заготовлял. А это, пожалуй, похуже гнилых сухарей будет, потому что солдат – он пожаловаться может, а у лошади и слов-то для жалобы нет…
Ах, нехорошо он тогда поступал!
Иногда Прозерпиночка даже прямо всей компанией над ним насмехалась. Задумают, например, молодые люди в горелки играть, а он, постылый, тут же торчит. Вот и заставят его гореть, да глаза вдобавок завяжут: «Лови!» Бросится он стремглав вперед, крылья распустит, летит, – а она с подружками да с юнкерами – в кусты. Выглядывают оттуда и кричат: «Лови, майор, лови!» – покуда он с размаху о сосну грудью не треснется.
На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся, и от времени до времени даже покрикивала на дочь: «Финиссе!» Но когда убедилась, что с майора как с гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху: «Нет ли у вас, майор, целкового? мы вам завтра с удовольствием отдадим».
Одна только Галочка жалела бедного чижика, и кто знает, не участвовало ли в этом жалении более сладкое чувство… По крайней мере, однажды, поздно вечером, когда майор, лениво шевеля крыльями, возвращался восвояси, Галочка обогнала его.
– Ну, к лицу ли вам такую красотку любить? – сказала она ему. – Женитесь-ка лучше на мне. Я вас вот как покоить буду!
Но он словно одеревенел. Даже не выслушал порядком Галочкиных слов и грубо ответил:
– Кабы я на галке жениться хотел, то галку бы и сватал за себя. А так как я к сестрице вашей присватался, то, стало быть, с ней и круг действия совершить желаю-с.
Впрочем, нельзя сказать, чтоб он уж совсем ничего не понимал. Напротив, он очень многое и очень тонко понимал. Но в то же время он ясно видел, что попался и что судьба его решена бесповоротно и навсегда. Почему навсегда? – он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил: «Бесповоротно! навсегда!»
И вот он женился. После свадьбы целый вечер бражничали, так что и вечерняя заря уже с час назад потухла, когда чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было! дивно! Теплая ночь благоухала; звезды в темной синеве неба, как алмазы, играли; а он, чижик, весь горел! Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг! Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама Прозерпиночка, казалось, подчинилась обаянию этой страсти. Она томно закрыла глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носиком в темечко… Но в эту самую минуту вдруг мимо чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей; они с гиканьем и свистом гремели песню: «Мальбруг в поход поехал…» Заслышав эти звуки, молодая мгновенно переродилась. В ночном дезабилье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прохохотала с юнкерами. Чижик, одевшись в мундир, стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться. Но – увы! – он скоро убедился, что в майорском чине веселость уж не к лицу. Как он ни нудил себя, но чин, в соединении с преклонным возрастом, взяли-таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Даже последовавший затем взрыв смеха не разбудил его. Так, в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь.
С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены.
Когда он проснулся, – хотя это было еще очень рано, – Прозерпиночки уже и след простыл. Чечеточка-девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что барышня к мамаше улетела, и будут ли дома кушать, или нет – неизвестно. «Барышня»! – это слово точно кипятком его ошпарило!
Он выглянул из дупла и прыгнул на ближайший сучок. Кругом царствовала мертвая тишина, которая предшествует пробуждению и во время которой вся природа представляется как бы неживущею. Птицы еще не проснулись; даже листья на деревьях не трепетали. Но восток уже алел, и майору показалось, что розоперстая Аврора, иронически приветствуя его, делает ему нос. Очевидно, что в эту ночь в его существовании совершилось нечто очень важное, ложившееся на все его будущее неизгладимым темным пятном; что ему предстояло выполнить какой-то долг, – весьма, впрочем, незатруднительный и всякому чижу свойственный, – но он, как раб ленивый и лукавый, этот долг не осуществил…