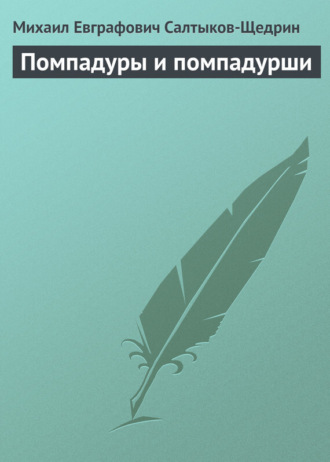
Михаил Салтыков-Щедрин
Помпадуры и помпадурши
Помпадур борьбы, или Проказы будущего
Я с детских лет знаю Феденьку Кротикова. В школе это был отличный товарищ, готовый и в форточку покурить, и прокатиться в воскресенье на лихаче, и кутнуть где-нибудь в задних комнатах ресторанчика. По выходе из школы, продолжая оставаться отличным товарищем, он в каких-нибудь три-четыре года напил и наел у Дюссо на десять тысяч рублей и задолжал несколько тысяч за ложу на Минерашках, из которой имел удовольствие аплодировать m-lle Blanche Gandon. Это заставило его взглянуть на свое положение серьезнее. Роль доброго товарища обходилась слишком дорого; надо было остепениться и избрать карьеру. И вот, не прошло четырех лет – слышим, что он, прямо из-под ферулы Дюссо, вдруг выказал необыкновенный административный блеск. Еще немного – и Феденька был уже помпадуром в городе Навозном…
Каким образом все это случилось – никто не мог дать себе отчета. Все видели, что Феденька сидит у Дюссо, но никто не подозревал, что он сидит неспроста, а изучает дух времени. У Дюссо же, кстати, собираются наезжие помпадуры и за бутылкой доброго вина развивают виды и предположения, какие кому Бог на душу пошлет, а следовательно, для молодых кандидатов в администраторы лучшей школы не может быть. И Феденька воспользовался ею вполне, то есть прислушивался и смекал. И вот, когда он понял, что для современного администратора ничего больше не требуется, кроме свободных манер, то тотчас же сообразил, что и он в этом отношении не лыком шит. Проникнув в известные сферы, из которых, как из некоего водохранилища, изливается на Россию многоводная река помпадурства, Феденька, не откладывая дела в долгий ящик, сболтнул хлесткую фразу, вроде того, что Россию губит излишняя централизация, что необходимо децентрализовать, то есть эмансипировать помпадуров, усилив их власть; что высшая администрация слишком погружена в подробности и мелочи; что мелочи отвлекают ее от главных задач, то есть от внутренней политики и т. д. Одним словом, высказал все, что говорится у Дюссо за стаканом доброго вина наезжими и жаждущими эмансипироваться помпадурами. Сболтнул – и понравился; понравился – и был признан способным уловлять вселенную…
Я первый порадовался возвышению Феденьки. Во-первых, я знал, что у него доброе сердце, а, по моему мнению, в помпадуре это главное. Если помпадур настолько простодушен, что ничем другим, кроме внутренней политики, заниматься не может, и если при этом он еще зол, то очевидно, что он не сумеет дать другого употребления своему досугу, кроме угнетения обывателя. Злая праздность подозрительна и ревнива. Лишенная знания и тех ограничений, которые оно приносит с собой, она заменяет его простым нахальством, и потому всюду вмешивается, во всем сознает себя компетентною, всем мешает, везде видит посягательство, покушение, оскорбление. Она с утра до вечера хлопает глазами и все ищет, как бы кого истребить, скрутить, согнуть в бараний рог. Клянусь, ничего тут хорошего нет. Напротив того, праздность невежественная, но соединенная с добродушием, не только не вредит, но даже представляет некоторые выгоды. Добрый помпадур застенчив; он никому не мешает и даже избегает лишних объяснений, потому что боится сболтнуть что-нибудь несообразное и выказать несостоятельность. Сознавая себя осужденным исключительно на внутреннюю политику, он все значение последней полагает в том, чтобы не препятствовать другим. Он посещает клуб – и всех призывает к согласию. Он ездит на пироги, обеды и ужины – и всем желает благополучия. Хороши добрые, невежественные помпадуры! При них обыватель с доверием смотрит в глаза завтрашнему дню, зная, что он встретит его в своей постели, а не на съезжей и что никто не перевернет вверх дном его существования по обвинению в недостаточной теплоте чувств. И вот этого именно, этой незлобивой невежественности, соединенной с доброжелательным отношением к обывателю, ждал я и от Феденьки.
Во-вторых, мне было известно, что Феденька имеет и другое драгоценное качество, – что он либерал. Это было время либерализма почти повального, то время, когда вдруг всем сделалось тошно и душно. Феденька отлично выразил это чувство в особенной докладной записке, представленной им по этому случаю. «Воспрещение курить на улицах, – писал он в этой записке, – ограничения относительно покроя одежды, в особенности же истинно-диоклетиановские гонения противу лиц, носящих бороды и длинные волосы, – все это, вместе взятое, не могло не оказать пагубного воздействия на общественную самодеятельность. Чувствуя себя на каждом шагу под угрозой мероприятий, большею частию направленных противу невиннейших поползновений человеческого естества, общество утратило веру в свои творческие силы и поникло под игом постыдного равнодушия к собственным интересам. Посему, и в видах поднятия народного духа, я полагал бы необходимым всенародно объявить: 1) что занятие курением табака свободно везде, за нижеследующими исключениями (следовало 81 п. исключений); 2) что выбор покроя одежды предоставляется личному усмотрению каждого, с таковым, однако ж, изъятием, что появление на улицах и в публичных местах в обнаженном виде по-прежнему остается недозволительным, и 3) что преследование за ношение бороды и длинных волос прекращается, а все начатые по сему предмету дела предаются забвению, за исключением лишь нижеследующих случаев (поименовано 33 исключения)». Как хотите, а человек, начинавший свой административный бег с такими смелыми задатками, не мог не заслуживать некоторого доверия. Притом же, излагая столь ясно свои либеральные убеждения, он ведь и рисковал. Он ставил на карту все свое административное будущее, ибо ежели смелость его могла понравиться, то она же могла и не понравиться и, следовательно, наделать ему хлопот. Мало того: он мог прослыть опасным мечтателем. К счастию, он попал в такую минуту, когда смелые начинания нравились…
Как бы то ни было, но Феденька достиг предмета своих вожделений. Напутствуемый всевозможными пожеланиями, он отправился в Навозный край, я же остался у Дюссо. С тех пор мы виделись редко, урывками, во время наездов его в Петербург. И я с сожалением должен сознаться, что мои надежды на его добросердечие и либерализм очень скоро разрушились.
Первое время административных подвигов Феденьки было лучшим его временем. Это было время либерализма безусловного, которому не только не служило помехой отсутствие мудрости, но, напротив того, сообщало какой-то ликующий характер. Феденька рвался вперед, нимало не думая о том, какие последствия будет иметь его рвение. Он писал циркуляры о необходимости заведения фабрик, о возможности, при добром желании, населить и оплодотворить пустыни, о пользе развития путей сообщения, промыслов, судоходства, торговли, и изъявлял надежду, что земледелие, споспешествуемое, с одной стороны, садоводством, а с другой, разведением улучшенных пород скота, принесет желаемые плоды и, таким образом, оправдает возлагаемые на него надежды. Он призывал к себе для совещания купцов и доказывал им неотложность учреждения кожевенных и мыловаренных заводов, причем говорил: прошу вас, господа, а в случае надобности, даже требую. Он приглашал дворян и говорил, что дворянское сословие всегда было опорою, а потому и теперь должно первое подать пример. В ожидании же результатов этой судорожной деятельности, он делал внезапные вылазки на пожарный двор, осматривал лавки, в которых продавались съестные припасы, требовал исправного содержания мостовых, пробовал похлебку, изготовляемую в тюремном замке для арестантов, прекращал чуму, холеру, оспу и сибирскую язву, собирал деньги на учреждение детского приюта, городского театра и публичной библиотеки, предупреждал и пресекал бунты и в особенности выказывал страстные порывы при взыскании недоимок.
Но увы! из всех этих либеральных затей Феденька достиг относительного успеха лишь по части пресечения бунтов и взыскания недоимок. Ко всем прочим его запросам общество отнеслось тупо, почти безучастно. Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судоходство не развивалось, купцы продолжали коснеть в невежестве, а земледелие, споспешествуемое сибирскою язвою, давало в результате более лебеды, нежели истинного хлеба. Это тем более озадачило Феденьку, что он, как вообще все администраторы, кончившие курс наук в ресторане Дюссо, не имел надлежащей выдержки и был скорее способен являть сердечную пылкость, нежели упорство в преследовании административных целей.
Тогда наступил второй период кротиковского либерализма, либерализма меланхолического, жалующегося, укоряющего. Хотя Феденька еще не пришел к отрицанию самого либерализма, но он уже разочаровался в либералах и довольно громко выражал это разочарование.
– Любезный друг! – говорил он мне в один из своих приездов в Петербург, – я просил бы тебя ясно представить себе мое положение. Я приезжаю в Навозный и вижу, что торговля у меня в застое, что ремесленность упала до того, что а la lettre[81] некому пришить пуговицу к сюртуку, что земледелие, эта опора нашего отечества, не приносит ничего, кроме лебеды… J’espère que c’est assez navrant, ça? hein! qu’en diras-tu?
– Mais oui… le tableau n’est pas de plus agrèables…[82]
– Eh bien, я вижу все это – и, разумеется, принимаю меры. Я пишу, предлагаю, настаиваю – и что ж? Хоть бы одна каналья откликнулась на мой голос! Ничего, кроме какого-то подлого сопения, которое раздается изо всех углов! Вот они! вот эти либералы, на которых мы возлагали столько надежд! Вот тот либеральный дух, который, по отзывам газет, «охватил всю Россию»! Черта с два! Охватил!!
Тем не менее Феденька не сразу уныл духом; напротив того, он сделал над собой новое либеральное усилие и по всем полициям разослал жалостный циркуляр, в котором подробно изложил свои огорчения и разочарования.
«Неоднократно замечено было мною, – писал он в этом циркуляре, – что в нашем обществе совершенно отсутствует тот дух инициативы, с помощью которого великие народы совершают великие дела. Не раз указывал я, что путей сообщения у нас, можно сказать, не существует, что судоходство наше представляет зрелище в высшей степени прискорбное для сердца всякого истинного патриота, что в торговле главным двигателем является не благородная и вполне согласная с предписаниями политико-экономической науки потребность быть посредником между потребителем и производителем, а гнусное желание наживы, что земледелие, этот главный источник благосостояния стран, именующих себя земледельческими, не радует земледельца, а землевладельцу даже приносит чувствительное огорчение. Указывая на все вышеизложенное, я питал надежду, что голос мой будет услышан и что здоровые силы страны воспрянут от многолетнего безмятежного сна, дабы воспользоваться плодами оного. Скажу более: я был уверен, что отечество наше, искони превосходя государства Западной Европы беспрекословным исполнением начальственных предписаний и непреоборимым благочестием, станет наряду с ними и с точки зрения промышленности и полезных изобретений. И тогда, думалось мне, то есть если б все сие осуществилось, не имели ли бы мы полное основание воскликнуть: с нами Бог – кто же на ны?!
Но, к великому и душевному моему огорчению, я усматриваю, что наше общество продолжает коснеть все в том же бездействии, в каком я застал его и в первое время по приезде моем в Навозный край. А именно: путей сообщения не существует, судоходство в упадке, торговля преследует цели низкие и неблагородные, а при взгляде на земледелие единственная мысль, которая приходит в голову, есть следующая: всуе труждаются зиждущие! К сему, с течением времени, присоединились: процветание кабаков и необыкновенный успех сибирской язвы. Спрашивается: при всем предыдущем и при деятельном пособничестве последующего, какое имеем мы основание восклицать: кто же на ны?!
Уже умственному моему взору без труда представляется удручающая сердце картина будущего. Край пустынен; полезные и кроткие породы птиц и зверей уничтожились, а вместо оных господствуют породы хищные и неполезные; благочестие упразднилось, а вместо оного царствуют пьянство и разврат! Какое сердце патриота не содрогнется при виде столь ужасного зрелища, даже если бы оное было лишь плодом моей предусмотрительной фантазии?!
А между тем из архивных дел достоверно усматривается, что некогда наш край процветал. Он изобиловал туками (как это явствует из самого названия «Навозный»), туки же, в свою очередь, способствовали произрастанию разнородных злаков. А от сего процветало сельское хозяйство. Помещики наперерыв стремились приобретать здесь имения, не пугаясь отдаленностью края, но думая открыть и действительно открывая золотое дно. Теперь – нет ни туков, ни злаков, ни золотого дна. Какая же причина такого прискорбного оскудения?
Я знаю, что упразднение крепостного права многие надежды оставило без осуществления, а прочие и совсем прекратило; я, вместе с другими, оплакиваю сей факт, но и за всем тем спрашиваю себя: имеется ли законное основание, дабы впадать, по случаю оного, в уныние или малодушие?
Тем не менее я не вхожу в подробное рассмотрение этого вопроса, ибо рассмотрение привело бы меня к расследованию, которое, в свою очередь, повлекло бы за собою полемику, которой, в моем положении, я всячески должен избегать. Ограничиваюсь лишь следующим кратким замечанием. Помещики, под влиянием досады, возбужденной в них упразднением крепостного права, бросились вырубать принадлежащие им леса и продавать оные за бесценок. К сожалению, ощутительной выгоды от сего они не получили никакой, а стране между тем причинили несомненнейший ущерб. С истреблением лесов надолго, если не навсегда, утвердилось господство иссушающих ветров, которые, не встречая преград в своем веянии, повсюду производят пагубнейшее действие. Обмеление рек уже возымело начало, а в близком будущем предвидится и недостаток влажности в воздухе. Поля угрожают хроническим бесплодием, а человеческие легкие будут лишены возможности вдыхать животворную влажность воздуха. В каком же положении, среди всего сего, нахожусь я, на которого доверие начальства возложило заботы по обеспечению народного продовольствия, равно как и по охранению народного здравия?!
Ввиду всего вышеизложенного, я вновь и в последний раз предлагаю принять решительные меры (не прибегая, однако ж, до времени, к экзекуциям) к поднятию общественного духа и возбуждению в оном наклонности к деяниям смелым и великим. С этою целью имеете вы непрестанно увещевать купцов, разночинцев и мещан; помещикам же и прочим благородным людям кротко, но убедительно доказывать, что временные лишения должны быть переносимы безропотно, с надеждой на милость Божию в будущем. Всем же вообще внушать за достоверное, что я, с своей стороны, готов везде и во всякое время оказывать деятельнейшее содействие всякому благому начинанию.
Об успехе ваших увещаний, внушений и собеседований обязываетесь вы сообщать мне через каждые две недели всенепременно и неупустительно».
Один экземпляр этого циркуляра Феденька прислал мне при письме, в котором говорил: «Ты видишь, душа моя, что я еще бодрюсь; но если и за сим наше судоходство останется в прежнем жалком положении, тогда – ma foi![83] – я не остановлюсь даже перед экзекуцией». На что я с первой же почтой ответил: «Мы все удивляемся экспрессии твоего циркуляра: это своего рода chef d’oeuvre.[84] Ax! если б ты жил во времена Великой французской революции! Теория, отыскивающая в помещичьей мстительности причину происхождения ветров и обмеления рек, смела и нова. Но не слишком ли, однако ж, смела? Подумал ли ты об этом, мой друг? Смотри, чтобы не было запроса!»
Увы! это был последний пароксизм Феденькина либерализма. Вскоре после этого я на долгое время уехал за границу и совершенно потерял Феденьку из виду. Затем, по возвращении в Петербург, встретившись с одним приезжим из Навозного (то был Рудин, которого Феденька взял к себе в чиновники для особых поручений, несмотря на его крайний образ мыслей), я услышал от него следующую краткую, но выразительную аттестацию о Кротикове: «порет дичь». Это вдвойне меня огорчило: во-первых, потому, что я искренно любил Феденьку и мне всегда казалось, что он может сделать свою карьеру только на либеральной почве, а во-вторых, и потому, что меня в это время уже сильно начали смущать будущие судьбы русского либерализма. Одновременно с Кротиковым, стезю свободомыслия покинули: Иван Хлестаков, Иван Тряпичкин и Кузьма Прутков. Все это было тем более горько, что и до этого времени наш либерализм существовал лишь благодаря благосклонному попустительству некоторых просвещенных лиц.
И вот теперь – еще одним просвещенным попустителем меньше!
Под влиянием этого горького чувства я не выдержал и написал к Кротикову письмо, исполненное укоризн. А через два месяца получил следующий сухой ответ:
«Извини, что не скоро ответил, да и теперь пишу лишь несколько строк: в моем положении, право, не до переписки с бывшими товарищами и друзьями. На вопросы твои, впрочем, считаю долгом объяснить, что, кроме либеральных идей, о которых ты так много и красноречиво написал, есть еще идеи консервативные, о которых ты вовсе умалчиваешь. Вот что ты упустил из вида и что я нелишним считаю тебе напомнить. Каким образом я пришел к убеждению, что либеральные идеи скрывают в себе пагубное заблуждение – здесь объяснять не место. Надеюсь, однако ж, что ты без труда поймешь, что в моем положении заблуждаться не только неприлично, но и непозволительно. Из всех зол, которые до сих пор известны, нет зла более ужасного, как заблуждающийся помпадур, ибо с его заблуждением неизменно связывается заблуждение целого края. Я думаю, это довольно ясно и прибавлять к этому нечего. Затем, моля подателя всех благ, дабы он просветил тебя, остаюсь не разделяющий твоих заблуждений, но все еще любящий тебя Феодор Кротиков».
Однако я не только не вразумился этим наставлением, но, возгорев вящею ревностью по либерализме, попытался вразумить самого Феденьку.
«Феденька! – писал я ему, – когда ты был либералом, как резюмировалась твоя политическая программа? – Она резюмировалась следующим образом: учреждение фабрик и заводов, устройство путей сообщения, развитие торговли, процветание земледелия, неустанная разработка недр земли, устность, гласность и т. д. Теперь, когда ты сделался консерватором, какая возможна для тебя программа? – Очевидно, следующая: отсутствие фабрик и заводов, расстройство путей сообщения, застой в торговле, упадок земледелия, господство иссушающих ветров, обмеление рек и т. д. Ибо ты желаешь сохранить то, что есть, а есть именно то, что сейчас мною исчислено. Или, быть может, ты надеешься на кабаки и сибирскую язву? Но, в таком случае, выразись прямо. Вместо прежних блестящих циркуляров издай новый, в котором категорически объяви, что впредь воспрещается какое бы то ни было развитие, кроме развития сибирской язвы».
Ответа на это письмо не последовало.
После того я имел о Кротикове лишь смутные сведения. Я слышал, что первым поводом к отречению его от либерализма было появление гласных судов и земских управ. Это навело его на мысль, что существуют какие-то корни и нити, которые надобно разыскать и истребить, ибо, в противном случае, ему, Кротикову, не будет житья. Затем наступили известные события в Западной Европе: интернационалка, франко-прусская война, Парижская коммуна и т. д., и все это сильно заботило его, потому что он видел в этих событиях связь с новыми судами и земскими учреждениями. Он внимательно следил за газетами, предполагая, сообразно с тем или другим исходом событий, дать и своей внутренней политике более решительное направление. В ожидании же того, какие идеи восторжествуют, здравые или так называемые сюбверсивные,[85] он волновался и угрожал.
– Если восторжествуют здравые идеи, – говорил он, – я, конечно, буду очень рад. Да-с, очень рад-с. Но, признаюсь откровенно, с политической точки зрения, я был бы не недоволен, если б восторжествовала и революция… разумеется, временно… По крайней мере мы, без всякой опасности для себя, могли бы узнать, кто наши внутренние враги, кто эти сочувствователи, которые поднимают голову при всяком успехе превратных идей, как велика их сила и до чего может дойти их дерзость. Et alors, messieurs…[86]
Феденька умолкал и загадочно грозился в ту сторону, где помещались земская управа, окружной суд и акцизное управление.
Но здравые идеи восторжествовали; Франция подписала унизительный мир, а затем пала и Парижская коммуна. Феденька, который с минуты на минуту ждал взрыва, как-то опешил. Ни земская управа, ни окружной суд даже не шевельнулись. Это до того сконфузило его, что он бродил по улицам и придирался ко всякому встречному, испытывая, обладает ли он надлежащею теплотою чувств. Однако чувства были у всех не только в исправности, но, по-видимому, последние события даже поддали им жару…
Феденька недоумевал. Он был убежден, что тут есть какая-то интрига, но в чем она состоит – объяснить себе не умел. Бедный! Он, видимо, следовал старой рутине и все искал каких-то фактов, которые дали бы ему повод объявить поход. Он не подозревал, что система фактов есть система устарелая, что нарождается и даже народилась совершенно иная система, которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей…
И вот, как бы для того, чтоб вывести его из недоразумения, в газетах появилось известие, что в версальском национальном собрании образовалась партия, которая на развалинах любезного отечества водрузила знамя «борьбы»…
Слово это было для Феденьки целым откровением. Да, это оно, это то самое слово, до которого он столько лет так тщетно додумывался. Все, что бессвязно копошилось в нем с той самой минуты, когда он внезапно объявил себя консерватором, все, к чему он порывался и к обретению чего делал тщетные попытки, – все нашло для себя осуществление в слове «борьба». Не то чтобы он понял смысл этого слова, но он достиг результата еще более существенного: он понял, что ему нет надобности что-нибудь понимать. До сих пор он отыскивал корни и нити; теперь он убедился, что ни в чем подобном нет надобности и что на будущее время он окончательно освобожден от труда что-нибудь отыскивать.
Это было очень удобно, ибо давало возможность объявить поход, не уяснив себе даже цели его. Отсутствие ясно сознанной цели – вот ахиллесова пята всех администраторов, получавших воспитание у Дюссо и в заведении искусственных минеральных вод. И Феденька почувствовал себя как-то необыкновенно легко и свободно, когда убедился, что ему не нужно ни фактов, ни целей, а нужен только «дух», «направление», «превратные толкования» – и ничего больше. Что означают эти слова – это до него не касается; он рад уже и тому, что есть такие слова, которые хоть и черт знает что означают, но дают исходную точку для борьбы. Борьба, сама себе дающая начало, сама себя питающая и сама себя имеющая пожрать (Феденька, впрочем, не рассчитывал на эту последнюю особенность), борьба против привидений прошлого, настоящего и будущего, борьба необъяснимая в своих источниках и неуловимая в своих последствиях – вот программа, которую предстояло ему разработывать в будущем. Она страдает отсутствием содержания, но зато легче ее ничего нельзя вообразить. Не нужно ни ума, ни изобретательности, ни предусмотрительности; нужен только темперамент да еще кой-какой внешний церемониал, который помог бы скрыть бессодержательность системы и отсутствие целей.
Темпераментом Феденька обладал в изобилии; но хотя этого одного было вполне достаточно для совершения великого дела борьбы, однако он почему-то решил, что нужно прибавить кой-что и еще. Задача, предстоявшая ему, была слишком нова, чтоб приступить к ней сплеча, подобно тому как приступали к разрешению своих задач его предшественники-помпадуры. Все бывшие до него помпадурства заимствовали свои определения от которого-нибудь из семи смертных грехов; его же помпадурство должно быть исключительно помпадурством борьбы. «Да-с, это не то, что брать хапанцы или бить по зубам-с; эта штучка будет пограндиознее-с», – хвастался Феденька и, весь исполненный жажды славных дел, решился прежде всего поразить воображение обывателей Навозного.
Церемониал, который придумал по этому случаю Феденька, был очень сложен. Он перебрал в своей памяти весь курс истории Смарагдова, весь репертуар театра Буфф и все газетные известия о чудесах в решете, происходящих в современной Франции. Образовалось нечто волшебное. Крестовые походы, Иоанна д’Арк, храбрый рыцарь Дюнуа, лурдские богомолья, отречение от сатаны в Парэ-ле-Мониале – все нашло себе место в этом громадном плане. Ввиду предстоящего нравственного возрождения Навозного, он не щадил ничего. Пусть завистники утверждают, что его план «борьбы» напоминает оперетту Лекока «Le beau chevalier Dunois»[87] и не имеет никакого отношения к Навозному; он знает, что в Навозном уже давно прорываются факты, свидетельствующие, что яд, погубивший Францию, проник и туда и что, следовательно, именно теперь план его как нельзя более уместен и своевременен. Не дальше как вчера председатель земской управы в клубе публично рассуждал о какой-то независимости и утверждал, что он сам по себе, а Феденька сам по себе. Вот факт. Скажут, что в этом факте еще нет настоящих корней и нитей – допустим, что это и так! Нет корней и нитей, но есть яд! «Понимаете ли: яд-с!» И надо этот яд истребить. «Да-с».
Душою задуманного заговора будет, конечно, он сам. Он – рыцарь без страха и упрека; он – Баяр из истории Смарагдова и Дюнуа из театра Буфф. Пособниками у него будут: правитель канцелярии, два чиновника особых поручений, отрекшиеся от либерализма, и все частные пристава. Для большего эффекта можно будет еще прихватить Ноздрева, Тараса Скотинина и Держиморду. Ассистенты: предводитель и командир гарнизонного батальона. По окончании похода городской голова, в мундире, поднесет ему хлеб-соль. А дабы сообщить предстоящему походу вполне волшебный характер и вместе с тем обеспечить его успех, предстояло еще отыскать что-нибудь вроде Иоанны д’Арк (без нее немыслимо чудесное возрождение Навозного), очистить администрацию от плевел и торжественно отречься от сатаны и всех дел его. Тогда «борьба» пойдет как по маслу.
Иоанну д’Арк он имел уже в виду. То была девица Анна Григорьевна Волшебнова, дочь начальника одной из местных команд, с которою Феденька находился в открытой любовной связи, но которая, и за всем тем, упорно продолжала именовать себя девицею.
Положение m-lle Волшебновой было очень фальшивое. Феденька увлек ее обещанием жениться, но впоследствии не только забыл о своих клятвах, но даже прямо объявил, что звание помпадурши и само по себе достаточно почтенно. Вероломство Кротикова не обошлось, однако ж, без скандала, ибо штабс-капитан Волшебнов счел долгом протестовать. Чтоб усмирить его, Феденька был вынужден утвердить какие-то неслыханные цены на провиант и фураж и только этим актом великодушия достиг того, что оскорбленный отец явился к нему с повинною и объявил, что отныне и навсегда все недоразумения между ними покончены.
Обзаведясь помпадуршей, Феденька предназначал ей очень блестящую роль. Он желал, чтоб она блистала на балах и имела салон, который служил бы средоточием внутренней политики и в котором она царила бы, окруженная толпою почтительных поклонников и пленяя всех остроумием, любезностью и грацией. Но Анна Григорьевна была простая и робкая девушка, которая очень серьезно привязалась к своему помпадуру и, в то же время, никак не могла освоиться с таким положением, в котором было слишком много блеска. При всей ее миловидности и грации, ей было далеко до настоящей, заправской помпадурши. Природа не дала ей ни величественного роста, ни роскошного бюста, перед которым бы в умилении останавливался прохожий. Не блистала она и нарядами и как-то наивно краснела, когда навозные Севинье и Рекамье заводили при ней разговор на тему о мужчине и его свойствах. Самое возвышение ее произошло совершенно неожиданно, так что предводительши и советницы, с нетерпением ждавшие, на ком остановится Феденькин выбор, были изумлены и сконфужены таким странным исходом дела.
Феденька очень хорошо видел недостатки Анны Григорьевны и душою скорбел о них. Но некоторое время он все еще не терял надежды и почти насильно навязывал ей политическую роль.
– Vous devez être а la hauteur de votre position, ma chère![88] – беспрерывно твердил он ей и, чтоб не слышать никаких отговорок, выписал для нее на свой счет несколько дорогих нарядов от Минангуа из Москвы.
Но как ни была она малоопытна, однако ж поняла, что два-три хороших наряда (Феденька не был в состоянии дать больше) в таком обществе, где проматывались тысячи и десятки тысяч, с единственною целью быть как можно более декольте – все равно что капля в море. В угоду ему она сделала, однако ж, несколько попыток, но – Боже! – сколько изобретательности нужно ей было иметь, чтоб тут пришить новый бант, там переменить тюник – и все для того, чтоб отвести глаза публике и убедить, что она является в общество не в «мундире», как какая-нибудь асессорша, а всегда в новом и свежем наряде! И как бесплодны были эти усилия! Как быстро разлетались они перед проницательностью этих дам, с первого же взгляда, без ошибки угадывавших однажды виденное платье, под какими бы сложными комбинациями оно ни являлось на сцену во второй раз!
Ей было почти страшно, когда она в первый раз шла с предводителем во второй паре в польском (в первой паре шел он с предводительшей). Она видела, что кругом дебелые дамы шушукаются, что ей дают место с какой-то нахальной торжественностью, что сам предводитель, ведя ее за руку, чуть не напрямки высказывает, что он никогда не снизошел бы до дочери штабс-капитана Волшебнова, если б не требования внутренней политики. Но вот польский кончился; не успела она занять свое место, как музыка заиграла вальс; к ней подлетает приехавший в отпуск гусар и с утонченной любезностью, в которой она, однако ж, угадывает худо скрываемую развязность, приглашает ее на тур. Затем, точно в сновидении, одни за другими следуют: кадриль, полька, опять кадриль, опять вальс и, наконец, мазурка. И все время, с упорством, достойным лучшего дела, следит за нею Феденька и как-то невыразимо страдает, когда она, с добросовестностью недавней институтки, выделывает шассе-круазе.
– Ma chère! vous êtes par trop La Valliеre![89] – шепчет он, подходя к ней в один из танцевальных промежутков, – я желал бы, чтоб вы взяли себе за образец madame de Maintenon!






