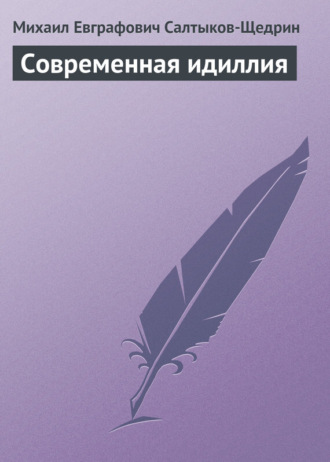
Михаил Салтыков-Щедрин
Современная идиллия
Спите! Бог не спит за вас!
Жуковский
I
Однажды заходит ко мне Алексей Степаныч Молчалин и говорит:
– Нужно, голубчик, погодить!
Разумеется, я удивился. С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу.
Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этим словом, и вот выискивается же человек, который приходит к заключению, что мне и за всем тем необходимо умерить свой пыл!
– Помилуйте, Алексей Степаныч! – изумился я. – Ведь это, право, уж начинает походить на мистификацию!
– Там мистификация или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет – погодить!
– Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
– Русские вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! Погодить – ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь… Например: гуляйте больше, в еду ударьтесь, папироски набивайте, письма к родным пишите, а вечером – в табельку или в сибирку засядьте. Вот это и будет значить «погодить».
– Алексей Степаныч! батюшка! да почему же?
– Некогда, мой друг, объяснять – в департамент спешу! Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы – русские; мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил, а последуете ли моему совету или не последуете, это уж вы сами…
С этими словами Алексей Степаныч очень любезно сделал мне ручкой и исчез. Это быстрое появление и исчезновение очень больно укололи меня. Мне казалось, что в переводе на язык слов этот факт означает: я не должен был сюда прийти, но… пришел. Во всяком случае, я хоть тем умалю значение своего поступка, что пробуду в сем месте как можно менее времени.
Да, это так. Даже руки мне порядком на прощанье не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил: «Готов я помочь, однако пора бы к тебе, сахар медович, понять, что знакомство твое – не ахти благостыня какая!» Я, конечно, не буду уверять, что он именно так думал, но что он инстинктивно гак чувствовал и что именно это чувство сообщило его появлению ту печать торопливости, которая меня поразила, – в этом я нимало не сомневаюсь.
По обыкновению, я сейчас же полетел к Глумову. Я горел нетерпением сообщить об этом странном коллоквиуме, дабы общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, буде надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степаныча. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством… и набивал папироски.
– Ты что это делаешь? – спросил я.
– А вот, подходящее, по обстоятельствам, занятие изобрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал, теперь – папироски делаю.
– Представь себе, ко мне Алексей Степаныч заходил и то же самое советовал!
– А я так сам догадался. Садись, вот тебе гильзы – занимайся.
– Позволь, однако, надо же хоть объясниться сперва!
– А тебе что Алексей Степаныч сказал?
– Да ничего путем не сказал. Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо!
– Чудак ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значит. Вот я себе сам, собственным движением, сказал: Глумов! нужно, брат, погодить! Купил табаку, гильзы – и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить».
– Помилуй! да разве мы мало до сих пор годили? В чем же другом вся наша жизнь прошла, как не в беспрерывном самопонуждении: погоди да погоди!
– Стало быть, до сих пор мы в одну меру годили, а теперь мера с гарнцем пошла в ход – больше годить надо, а завтра, может быть, к мере и еще два гарнца накинется – ну, и еще больше годить придется. Небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить! Давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести. Вместе и годить словно бы веселее будет.
Затем мы в несколько минут начертали план действий и с завтрашнего же дня приступили к выполнению его.
Прежде всего мы решили, что я с вечера же переберусь к Глумову, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать «годить». И не расстанемся до тех пор, покуда вакант сам собой, так сказать, измором не изноет.
Залегли мы спать часов с одиннадцати, точно завтра утром к ранней обедне собрались. Обыкновенно мы в это время только что словесную канитель затягивали и часов до двух ночи переходили от одного современного вопроса к другому, с одной стороны ничего не предрешая, а с другой стороны не отказывая себе и в достодолжном, в пределах разумной умеренности, рассмотрении. И хотя наши собеседования почти всегда заканчивались словами: «необходимо погодить», но мы все-таки утешались хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительности, что воля с нас не снята и что если бы, например, выпить при сем две-три рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так: «Господа! да неужто же, наконец…»
Но теперь мы с тем именно и собрались, чтобы начать годить, не рассуждая, не вдаваясь в исследования, почему и как, а просто-напросто плыть по течению до тех пор, пока Алексей Степаныч не снимет с нас клятвы и не скажет: теперь – валяй по всем по трем!
Мне не спалось, Глумов тоже ворочался с боку на бок. Но дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили в голову именно все такие, какие должны приходить людям, собравшимся к ранней обедне.
– Глумов! ты не спишь?
– Не сплю. А ты?
– И я не сплю.
– Гм… не зажечь ли свечу?
– Погоди, может быть, и уснем.
Прошло еще с полчаса – не спится, да и только. Зажгли свечу, спустили ноги с кровати и сели друг против друга. Глядели-глядели – наконец смешно стало.
– Постой-ка, я в буфет схожу; я там, на всякий случай, два куска ветчины припас! – сказал Глумов.
– Сходи, пожалуй!
Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Вот он в кабинет вошел, вот вступил в переднюю, вот поворотил в столовую… Чу! ключ повернулся в замке, тарелки стукнули… Идет назад!!
Когда человек решился годить, то все для него интересно; способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, а мысли – приходят во множестве.
– Вот ветчина, а вот водка. Закусим! – сказал Глумов.
– Гм… ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить – спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь об том, как эта самая ветчина ветчиной делается?
– Была прежде свинья, потом ее зарезали, рассортировали, окорока посолили, провесили – вот и ветчина сделалась.
– Нет, не это! А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолил, выкормил? И почему он с нею расстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи едим…
– И празднословием занимаемся… Будет! Сказано тебе, погодить – ну, и жди!
– Глумов! я – немножко!
– Ни слова, ни полслова – вот тебе и сказ. Доедай и ложись! А чтобы воображение осадить – вот тебе водка.
Выпили по две рюмки – и действительно как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось, теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать – это целое занятие, целый умственный процесс, особливо если при этом имеется в виду практический результат. А так как в настоящем случае ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя и устраняя все, что могло нанести ему ущерб. Старался не переменять положения тела, всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск мысли, по преимуществу, ни с чем несообразный, даже целые сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за пределы моих скромных намерений), но, признаюсь откровенно, все они имели в своем основании слово «погодить».
Наконец, уже почти совсем сонный, я вымолвил:
– Да, брат! а насчет ветчины – все-таки… Это, брат, в своем роде – сюжет!
– Сюжет! – тоже сквозь сон ответил мне Глумов, и затем голова моя окончательно окунулась в облако.
Проснулись мы довольно рано (часов в девять), но к ранней обедне все-таки не поспели.
– Впрочем, и то сказать, – начал я, – не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.
– Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит, – осадил меня Глумов, – но не об том речь, а вот я насчет горячего распоряжусь. Тебе чего: кофею или чаю?
Я задумался. Обыкновенно я пью чай, но нынче все так было необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Дай-ко, думаю, кофейку хвачу!
– Кофею, братец! – воскликнул я и даже хлопнул себя по ляжке от удовольствия.
Подали кофей. Налили по стакану – выпили; по другому налили – и опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
– Калач-то от Филиппова? – спросил я.
– Да, от Филиппова.
– Говорят, у него в пекарне тараканов много…
– Мало ли что говорят! Вкусно – ну, и будет с тебя! Глумов высказал это несколько угрюмо, как будто предчувствуя, что у меня язык начинает зудеть.
– А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач…
– Что «калач»?
– Ну вот родословную-то его… Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит, у кого лежит, как этот человек за сохой идет, напирая на нее всею грудью, как…
– Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофей с калачом пьем, да и тебе только это знать советую!
– Глумов! да ведь я немножко! Ведь если мы немножко и поговорим – право, вреда особенного от этого не будет. Только время скорее пройдет!
– И это знаю. Да не об том мы думать должны. Подвиг мы на себя приняли – ну, и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофей, да идем гулять! Вспомни, какую нам палестину выходить предстоит!
В одиннадцать часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
– Вот, брат, и суд наш праведный! – сказал я.
– Да, брат, суд! – вздохнул в ответ Глумов.
– А коли по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды…
– Да обуздай наконец язычище свой! Ну, суд – ну, и прекрасно! И будет с тебя! Архитектура вот… разбирай ее на здоровье! Здание прочное – внутри двор… Чего лучше!
– Да, мой друг, удивительно, как это нынче… Говорят, даже буфет в суде есть?
– Есть и буфет.
– А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
– Водки рюмку выпить можно – какой еще славы нужно!
Котлетки подают, бифштекс – в звании ответчика даже очень прилично!
– Удивительно! просто удивительно! И правосудие получить, и водки напиться – все можно!
– Только болтать лишнее нельзя! Идем на Фурштадтскую. Пошли по Фурштадтской; дошли до овсянниковского дома.
– Вот какой столб был! До неба рукой доставал – и вдруг рухнул! – воскликнул я в умилении, – я, впрочем, думаю, что провидение не без умысла от времени до времени такие зрелища допускает!
– Для чего провидение допускает такие зрелища – это, брат, не нашего ума дело; а вот что Овсянников подвергся каре закона – это верно. Это я в газетах читал и потому могу говорить свободно!
– Да, но отчего же и о путях провидения не припомнить при этом?
– Оттого, что пути эти нам неизвестны, – вот отчего. А что нам не известно – к тому мы должны относиться сдержанно. Шагай, братец.
В конце Фурштадтской – питейное заведение. Выходит оттуда мужчина в изорванном пальто, с изорванной физиономией и, пошатываясь, горланит:
Красавица! Подожди!
Белы руки подожми!
– Вот и он советует подождать! – говорю я.
– Да, потому что всем такая линия вышла!
– А бедный он!
– Кто? пьяница-то?
– Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтоб накипело у человека в груди…
Но Глумов и тут оборвал меня, запев:
– Красавица! Подожди!
Белы руки подожми!
– Не для того я напоминаю тебе об этом, – продолжал он, – чтоб ты именно в эту минуту молчал, а для того, что если ты теперь сдерживать себя не будешь, той в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна, воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что оттого вся эта неопрятность и происходит, что мы на каждом шагу послабления себе делаем. Прямо, на улице, пожалуй, не посмеем высказаться, а чуть зашли за угол – и распустили язык. Понятно, что начальство за это претендует на нас. А ты так умей собой овладеть, что, ежели сказано тебе «погоди!», так ты годи везде, на всяком месте, да от всего сердца, да со всею готовностью – вот как! даже когда один с самим собой находишься – и тогда годи! Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка!
Я должен был согласиться с Глумовым. Действительно, русский человек как-то туго поддается выдержке и почти совсем не может устроить, чтобы на всяком месте и во всякое время вести себя с одинаковым самообладанием. Есть у него в этом смысле два очень серьезных врага: воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох, a потому сию минуту он увядает, а в следующую – расцветает, сию минуту рассыпается в выражениях преданности и любви, а в следующую – клянет или загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются. Но, во всяком случае, он не умеет сдержать свою мысль и речь в известных границах, но непременно впадает в расплывчивость и прибегает к околичностям. Прочтите любой судебный процесс, и вы без труда убедитесь в этом. Ни один свидетель на вопрос: где вы в таком-то часу были? – не ответит просто: был там-то, но непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, которых фамилии попадутся ему на язык, потом об себе отзовется, что он человек несчастный, и, наконец, уже на повторительный вопрос: где вы были? – решится ответить: был там-то, но непременно присовокупит: виделся вот с тем-то, да еще с тем-то, и сговаривались мы сделать то-то. Одним словом, самого ничтожного повода достаточно, чтоб насторожить воображение и чтобы последнее немедленно нарисовало целую картину.
Ввиду всех этих соображений, я решился сдерживать себя. Молча мы повернули вдоль линии Таврического сада, затем направо по набережной и остановились против Таврического дворца. Натурально, умилились. Тени Екатерины, Потемкина, Державина так живо пронеслись передо мною, что мне показалось, что я чувствую их дуновение.
– Вот где витает тень великолепного князя Тавриды! – воскликнул я.
– Да, брат, вот тут, в этом самом месте, он и жил! – отозвался Глумов.
– И что от него осталось? Чем разрешилось облако блеска, славы и власти, которое окружало его? – Несколькими десятками анекдотов в «Русской старине», из коих в одном главную роль играет севрюжина! Вон там был сожжен знаменитый фейерверк, вот тут с этой террасы глядела на празднество залитая в золото толпа царедворцев, а вдали неслыханные массы голосов и инструментов гремели «Коль славен» под гром пушек! Где все это?
Я расчувствовался, встал в позу и продекламировал;
– Где стол был яств – там гроб стоит,
Где пришеств раздавались клики,
Надгробные там воют лики,
И бледна смерть на всех глядит.
Глядит на всех…
Дальше не помню, но не правда ли, удивительно!
– Удивительно-то удивительно, только это из оды на смерть Мещерского, и к Потемкину, следовательно, не относится, – расхолодил меня Глумов.
– Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторить приятно! Екатерина! Державин! Имена-то какие, мой друг! часто ли встретишь ты в истории такие сочетания!
– Орловы! Потемкин! Румянцев! Суворов! – словно эхо, вторил мне Глумов и, став в позицию, продекламировал;
Вихрь полуночный летит богатырь!
Тень от чела, с посвиста – пыль!
– А потом Дмитриев-Мамонов и наконец Зубов… И каждому-то умел старик Державин комплимент сказать!
Под наплывом этих отрадных чувств начали мы припоминать стихи Державина, но, к удивлению, ничего не припомнили, кроме:
Запасшися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет![1]
– Да, брат, был такой крестьянин! был! – воскликнул я, подавленный нарисованною Державиным картиной.
Как ни сдержан был Глумов, но на этот раз и он счел неуместным охлаждать мой восторг.
– Да, брат, был, – сказал он почти сочувственно.
– Было! все было! – продолжал я восклицать в восхищении, – и «добры щи» были! представь себе: «добры щи»!
– Представляю, но все-таки не могу не сказать: восхищаться ты можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований в смысле укора настоящему!
И с этим замечанием я должен был согласиться. Да, и восторги нужно соразмерять, то есть ни в каком случае не сосредоточивать их на одной какой-нибудь точке, но распределять на возможно большее количество точек. Нужды нет, что, вследствие этого распределения, восторг сделается более умеренным, но зато он все точки равно осветит и от каждой получит дань похвалы и поощрения. Поэты старого доброго времени очень тонко это понимали и потому, ни на ком исключительно не останавливаясь и никого не обижая, всем подносили посильные комплименты.
Мы повернули назад, прихватили Песков, и когда поравнялись с одним одноэтажным деревянным домиком, то я сказал:
– Вот в этом самом доме цензор Красовский родился!
– Врешь?
Я соврал действительно; но так как срок, в течение которого мне предстояло «годить», не был определен, то надо же было как-нибудь время проводить! Поэтому я не только не сознался, но и продолжал стоять на своем.
– Верно, что тут! – упорствовал я, – мне Тряпичкин сказывал. Он, брат, нынче фельетоны-то бросил, за исторические исследования принялся! Уваровскую премию надеется получить! Тут родился! тут!
Постояли, полюбовались, вспомнили, как у покойного всю жизнь живот болел, наконец, – махнули рукой и пошли по Лиговке. Долго ничего замечательного не было, но вдруг мои глаза ухитрились отыскать знакомый дом.
– Вот в этом самом доме собрания библиографов бывают, – сказал я.
– Когда?
– Собираются они по ночам и в величайшем секрете: боятся, чтоб полиция не накрыла.
– Их-то?
– Да, брат, и их! – Вообще человечество все…
– Ты бывал на этих собраниях?
– Был однажды. При мне «Черную шаль» Пушкина библиографической разработке подвергали. Они, брат, ее в двух томах с комментариями хотят издавать.
– Вот бы где «годить» – то хорошо! Туда бы забраться, да там все время и переждать!
– Да, хорошо бы. При мне в течение трех часов только два первые стиха обработали. Вот видишь, обыкновенно мы так читаем:
Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль…
А у Оленина (1831 г. in 8-vo) последний стих так напечатан;
И гладкую душу дерзает печаль…
Вот они и остановились в недоумении. Три партии образовались.
– Ужинать-то, по крайней мере, дали ли?
– Нет, ужина не было, а под конец заседания хозяин сказал: я, господа, редкость приобрел! единственный экземпляр гоголевского портрета, на котором автор «Мертвых душ» изображен с бородавкой на носу!
– Ну, и что ж?
– Натурально, все всполошились. Принес, все бросились смотреть: действительно, сидит Гоголь, и на самом кончике носа у него бородавка. Начался спор: в какую эпоху жизни портрет снят? Положили: справиться, нет ли указаний в бумагах покойного академика Погодина. Потом стали к хозяину приставать: сколько за портрет заплатил? Тот говорит: угадайте! Потом, в виде литии, прочли «полный и достоверный список сочинений Григория Данилевского» – и разошлись.
– Вот, друг, этак-то бы дожить!
– Да, хорошо! однако, брат, и они… на замечании тоже! Как расходились мы, так я заметил: нет-нет да и стоит, на всякий случай, городовой! И такие пошли тут у них свистки, что я, грешный человек, подумал: а что, ежели «Черная шаль» тут только предлог один!
Разговаривая таким образом, мы незаметно дошли до Невского, причем я не преминул обратиться всем корпусом к дебаркадеру Николаевской железной дороги и произнес:
– А вот это– результат пытливости девятнадцатого века! Затем, дойдя до Надеждинской улицы, я сказал:
– Эта улица прежде Шестилавочною называлась и шла от Кирочной только до Итальянской, а теперь до Невского ее продолжили. И это тоже результат пытливости девятнадцатого века!
А дойдя до булочной Филиппова, я вспомнил, какие я давеча мысли по поводу филипповских калачей высказывал, и даже засмеялся: как можно было такую гражданскую незрелость выказать!
– А помнишь, какой мы давеча разговор по случаю филипповских калачей вели? – обратился я к Глумову.
– Не я вел, а ты.
– Ну, да, я. Но как все это было юно! незрело! Какое мне дело до того, кто муку производит, как производит и пр.! Я ем калачи – и больше ничего! мне кажется, теперь – хоть озолоти меня, я в другой раз этакой глупости не скажу!
– И прекрасно сделаешь. «Вот как каждый-то день верст по пятнадцати – двадцати обломаем, так дней через десять и совсем замолчим!
– Но когда мы дошли до площади Александрийского театра, то душевный наш уровень опять поднялся. Вновь вспомнили старика Державина:
Богоподобная царевна
Киргиз-кайсацкия орды,
Которой мудрость несравненна…
– А вот и сам он тут! – воскликнул я, указывая на пьедестал.
– А вот храм Талии и Мельпомены! – отозвался Глумов, указывая на Александрийский театр.
– А рядом с ним храм Момусу!
– А напротив – отель Бель-вю!
Нам было так радостно, что все это так хорошо съютилось, что мы, дабы не отравлять счастливого душевного настроения, решились отвратить наши взоры от бывшего помещения конторы Баймакова, так как это зрелище должно было несомненно ввергнуть нас в меланхолию.
Проходя мимо Публичной библиотеки, я собрался было остановиться и сказать несколько прочувствованных слов насчет ненеуместности наук, но Глумов так угрюмо взглянул на меня, что я невольно ускорил шаг и успел высказать только следующий краткий exordium:[2]
– Вот здесь хранятся сокровища человеческого ума!
Зато у милютиных лавок мы отдохнули и взорами и душою. Апельсины, мандарины, груши, виноград, яблоки. Представьте себе – земляника! На дворе февраль, у извозчиков уши на морозе побелели, а там, в этой провонялой лавчонке, – уж лето в самом разгаре! И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас оттуда, всякий раз как дверь магазина отворялась! И как меня вдруг потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую, сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на всем пространстве которых, без всякого сомнения, ни одного непроплеванного места невозможно найти! Прийти туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении „годить“!
– Да, и тут „годить“ хорошо! – молвил Глумов, как бы угадывая мою мысль.
Но план наш уж был составлен заранее. Мы обязывались провести время хотя бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно. Мы понимали, что всякая примесь легкомыслия должна произвести игривость ума и что только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение „годить“. Поэтому хотя и не без насильства над самими собой, но мы оторвали глаза от соблазнительного зрелища и направили стопы по направлению к адмиралтейству.
Мы шли молча, как бы подавленные бакалейными запахами, которыми, казалось, даже складки наших пальто внезапно пропахли. Не обратив внимания ни на памятники Барклаю де-Толли и Кутузову, ни на ресторан Доминика, в дверях которого толпились какие-то полинялые личности, ни на обе Морские, с веселыми приютами Бореля и Таити, мы достигли Адмиралтейской площади, и тут я вновь почувствовал необходимость сказать несколько прочувствованных слов.
– Еще недавно здесь, на масленице и на святой, устраивались балаганы, и в определенные дни вывозили институток в придворных каретах. Теперь все это происходит уже на Царицыном лугу. Здесь же, на площади, иждивением и заботливостью городской думы, устроен сквер. Глумов! видишь этот сквер?
– Вижу. А ты – видишь?
– И я вижу. Я об том хочу сказать, что с каждым годом этот сквер все больше и больше разрастается. Сначала, когда его только что насадили, деревья вот эдакие были, и притом множество из них в первый же год погибло. Потом, по мере того, как заботливость городской думы развивалась, погибшие деревья заменялись новыми, а старые, сразу удавшиеся, пышнее и пышнее разрастались. В настоящее время не слишком тучный прохожий уже может свободно отдохнуть под их тенью, но, разумеется, не зимой. Глумов! правильно ли я говорю?
– Совершенно правильно.
– А теперь, исполнивши наш долг относительно Адмиралтейской площади и отдавши дань заботливости городской думы, идем к окончательной цели нашего путешествия, как оно проектировано на нынешний день!
Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился „Медный всадник“ Пушкина, и тут же кстати пришли на ум и слова профессора Морошкина о Петре:
„Но великий человек не приобщался нашим слабостям! Он не знал, что мы плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и слабы и худы, нам нужны были общие уставы человеческие!“[3]
Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их. Затем мы бросили прощальный взгляд на здание сената, в котором некогда говорил правду Яков Долгорукий, и так как программа гулянья на нынешний день была уже исчерпана и нас порядком-таки одолевала усталость, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной.
Было уже четыре часа, когда мы воротились домой, следовательно, до обеда оставался еще час. Глумов отправился распорядиться на кухню, а мне дал картуз табаку, пачку гильз и сказал:
– Займись!
Наконец подали обедать. Никогда не едал я так вкусно. Во-первых, никогда не приходилось делать подобного предобеденного моциона, а во-вторых, мы ели на свободе, без всяких политических соображений, „без тоски, без думы роковой“, памятуя твердо, что ничего другого, кроме еды, нам не предстоит. Поэтому каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно, и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. Подавали на закуску: провесную белорыбицу и превосходнейшую белужью салфеточную икру; за обедом удивительнейшие щи с говяжьей грудиной, потом осетрину паровую, потом жареных рябчиков, привезенных прямо из Сибири, и наконец – компот из французских фруктов. Само собой разумеется, что при каждой перемене кушанья возникал приличный обстоятельствам разговор.
Давно, очень давно дедушка Крылов написал басню „Сочинитель и разбойник“, в которой доказал, что разбойнику следует отдать предпочтение перед сочинителем, и эта истина так пришлась нам ко двору, что с давних времен никто и не сомневается в ее непререкаемости. Позднее тот же дедушка Крылов написал другую басню „Три мужика“, в которой образно доказал другую истину, что во время еды не следует вести иных разговоров, кроме тех, которые, так сказать, вытекают из самого процесса еды. Этою истиною мы долгое время малодушно пренебрегали, но теперь, когда теория и практика в совершенстве выяснили, что человеческий язык есть не что иное, как орудие для выражения человеческого скверномыслия, мы должны были сознаться, что прозорливость дедушки Крылова никогда не обманывала его.
Мы солидно ели и» вели солидный разговор об еде. И по мере того, как обед развивался, перед нами открывались такие поразительные перспективы, которых мы никогда и не подозревали. Я покупал говядину в какой-то лавочке «на углу»; Глумов – на Круглом рынке; я покупал рыбу в Чернышевом переулке, Глумов – на Мытном дворе; я приобретал дичь в первой попавшейся лавке, на дверях которой висел замороженный заяц, Глумов – в каком-то складе, близ Шлиссельбургской заставы. Бесхозяйственность моя обнаружилась во всем ужасающем безобразии, так что я тут же мысленно решил, что без радикальных реформ обойтись невозможно.
– Ты сообрази, мой друг, – говорил я, – ведь по этому расчету выходит, что я, по малой мере, каждый день полтину на ветер бросаю! А сколько этих полтин-то в год выйдет?
– Выйдет триста шестьдесят пять полтин, то есть ста восемьдесят два рубля пятьдесят копеек.
– Теперь пойдем дальше. Прошло с лишком тридцать лет с тех пор, как я вышел из школы, и все это время, с очень небольшими перерывами, я живу полным хозяйством. Если б я все эти полтины собирал – сколько бы у меня теперь денег-то было?
– Тысячу восемьсот двадцать пять помножь на три – выйдет пять тысяч четыреста семьдесят пять рублей.
– Это ежели без процентов считать. Но я мог эти сбережения… ну, положим, под ручные залоги я бы не отдал… а всетаки я мог бы на эти сбережения покупать процентные булат, дисконтировать векселя и вообще совершать дозволенные законом финансовые операции… Расчет-то уж выйдет совсем другой.
– Да, брат, обмишулился ты!
– И заметь, что у тебя провизия превосходная, а у меня – только посредственная. Возьми, например, твоя ли осетрина или моя?
– Нет, вот я завтра окорочок велю запечь, да тепленький-тепленький на стол-то его подадим! Вот и увидим, что ты тогда запоешь!
– Ты где окорока покупаешь?
– Угадай!
– У Шписа? у Людекенса!
– В Мучном переулке!!!
– Скажите на милость!
Словом сказать, разочарование следовало за разочарованием, но, вместе с тем, являлась и надежда на исправление, а это-то, собственно, и было дорого. Ибо давно уже признано, что одни темные стороны никогда никого не удовлетворяют, если они не смягчаются светлыми сторонами, или, за недостатком их, «нас возвышающими обманами»! Так что, например, человек, которого обед состоит из одной тюри с водой, только тогда будет вполне удовлетворен, ежели при этом вообразит, что ест наварные щи и любуется плавающим в них жирным куском говядины.
Этих мыслей я, впрочем, не высказывал, потому что Глумов непременно распек бы меня за них. Да я и сам, признаться, не придавал им особенного политического значения, так что был даже очень рад, когда Глумов прервал их течение, пригласив меня в кабинет, где нас ожидал удивительной красоты «шартрез».
Был седьмой час в половине, когда мы встали из-за стола. Мы сели друг против друга в мягкие кресла, закурили какие-то необычайные nec plus ultra[4] и медленно, с толком дегюстировали послеобеденные рюмки, наполненные золотистой жидкостью. Хорошо нам было. Я не скажу, чтоб это был сон, но казалось, что какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-то с высоты и укачивала утомленное непривычным моционом тело. Сомкнув усталые вежды, мы молча предавались внутренним созерцаниям и изредка потихоньку вздрагивали. Наконец из груди Глумова вырвался стон, который сразу возвратил и его и меня к чувству действительности.
– А ведь я, брат, чуть-чуть не заснул, – удивился он и тут же громким голосом возопил: – зельтерской воды… и умыться!







