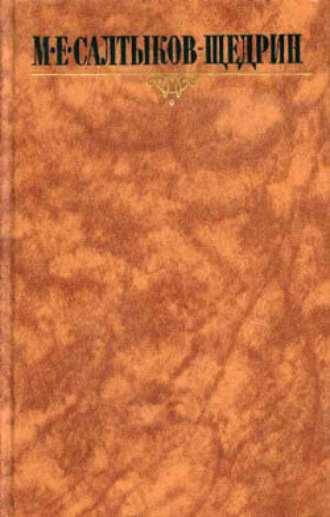
Михаил Салтыков-Щедрин
Убежище Монрепо
Кабатчики выказали себя несколько упорнее и не так-то легко предоставили меня моей судьбе. Благодаря Грацианову в период моего легкомысленного переполоха я завязал с ними очень крепкие связи. У всех вообще – пил водку, играл в стуколку и закусывал студнем, а в частности, с некоторыми вступил даже в духовное родство. У Осьмушникова крестил дочку, у Колупаева разыгрывал роль свата, у Прохорова – едва не свел со двора жену (разумеется, этого на деле не было, а были «насмешки», в которых я фигурировал в качестве соблазнителя). Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя особенно приятно, когда, бывало, Осьмушников, еще где завидев меня, крикнет: «Здорово, кум!» или Прохоров: «Здорово, свояк!» – но покуда для меня было неясно, имеет или не имеет Грацианов право читать в моем сердце, я крепился и молчал. Теперь, когда начальство меня разуверило и когда мои отношения к Грацианову определились вполне, я, конечно, счел первым долгом дать отпор всем кумовьям и своякам. Но они уже сами не соглашались ретироваться. В особенности же Прохоров долго донимал меня своими дружескими «насмешками». Только что, бывало, я расположусь «умирать», только что сомкнутся мои вежды и слух начнет наполняться тихими шепотами непостыдного угасания, как он уж тут как тут, словно из-под земли вырос. Сначала наполнит дом звуками одышки, потом грузно сядет в кресло, расправит пятерней кудри, оботрет клетчатым платком потное лицо, запалит папироску, дохнет сивухой и начнет шутки шутить.
– Устал, – скажет, – инда задохся. Туков много внутри скопилось. Ну а ты, свояк, что нос повесил?
– Да так…
– Чего «так»! Чай, все по чужим женам тоскуешь? а?
– Когда же это…
– Нет, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня жену хотел со двора свести? а?
– Но послушайте же, наконец…
– Нет, ты постой! погоди! ты вот мне на что ответь: разве это резон? Резон ли мужнюю жену на любовь с собою склонять? Как эти поступки в заповедях-то называются? слыхал? а?
– Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я…
– То-то «я»! Ну, ты!! Ты!! знаю я, что ты – ты! Ты бы вот рад радостью в чужом саду яблочко съесть, даже и сейчас у тебя от одного воображения глаза враскос пошли – да на тот грех я сам при сем состою! Ну, мир, что ли! пошутил! давай руку – будет с тебя!
Но в ту минуту, когда я мнил, что он серьезно подает мне руку, он совершенно неожиданно показывал мне шиш, а иногда и просто брал под мышки и, будучи вчетверо сильнее меня, увлекал в непроизвольный галоп, причем задыхался, хрипел и свистел на весь дом.
Это было ужасно мучительно, но я долго терпел и ни на что не решался. Наконец, однако ж, решился и однажды, когда он приблизился, чтоб взять меня под мышки, я совершенно серьезно плюнул ему в самую лохань. Только тогда он понял, что я – человек солидный и «независимый». Он скромно вытер платком лицо, произнес: «Однако!» – и с тех пор ко мне ни ногой.
Я сознаюсь, что это был с моей стороны очень дурной и наглый поступок, но клянусь, что в ту минуту он вышел сам собой. Защита как-то невольно приняла ту самую форму, в которую с давних пор облекалось нападение. Прохоров насильственно водворялся в моем доме, насильственно заставлял меня выслушивать свои «насмешки», насильственно хватал меня под мышки и увлекал в галоп – и вот я в той же насильственной форме дал ему отпор. Сверх того, я позволяю себе думать, что поступок этот скорее свидетельствует о моей деликатности (с большой, впрочем, примесью робости и слабохарактерности), нежели о прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бывают очень и даже чересчур выносливы. Они долго терпят, допускают и даже поддакивают именно из опасения обидеть, задеть чужое самолюбие. Поддакивают даже тогда, когда уже началось хватание под мышки. И вдруг, глаза открываются, и какое-то ужасно подлое и гадкое чувство начинает пронизывать все существо. Но, к сожалению, все это обнаруживается лишь тогда, когда дело уже мучительно обострилось. И вот…
Во всяком случае, я отнюдь не оправдываюсь, а только констатирую, как неприятно и ненадежно положение русского культурного человека, который помнит, что когда-то он занимался «филантропиями», и понимает, что по нынешнему времени это составляет неизбываемый грех. Он помнит, понимает и боится. Чего именно боится – он сам определенно сказать не может, но ведь чем неопределеннее подобное чувство, тем оно тяжелее. Главным образом, однако ж, он боится своей беззащитности, неприкрытости, и, вследствие этого, совершенно искренно верит, что и Грацианов, и Осьмушников, и Прохоров могут во всякое время свободно к нему войти в дом и полюбопытствовать: а что, мол, ты сам в одиночку каверзничаешь? И вот, когда сумма этих унизительных страхов накопится до nec plus ultra [6], когда чаша до того переполнится, что новой капле уж поместиться негде, и когда среди невыносимо подлой тоски вдруг голову осветит мысль: «А ведь, собственно говоря, ни Грацианов, ни Колупаев залезать ко мне в душу ни от кого не уполномочены», – вот тогда-то и является на выручку дикая реакция, то есть сквернословие, мордобитие, плеванье в лохань, одним словом – все то, что при спокойном, хоть сколько-нибудь нормальном течении жизни, мирному гражданину даже на мысль не придет.
Как бы то ни было, но я безмерно обрадовался, что наконец меня охватила со всех сторон бесконечная тишина. Под влиянием этой радости я совсем утерял из виду, что эти люди необходимо должны злобствовать на меня. Главная цель была достигнута: я очутился один – это было самое существенное. Но этого мало, я сделался почти бесстрашен. Не только позабыл, что под боком у меня сидит Грацианов, но опять вспомнил старое и бросился в филантропии. Начал мечтать, сочинять «промежду себя» реформы, и всё такие, чтобы все разом почувствовали и в то же время никто ничего не ощутил. Сначала, разумеется, мечтал робко, но чем дальше, тем смелее, и, наконец, «в надежде славы и добра», пустил такими букетами, что даже стены, слушавшие меня, – и те смекнули, чем пахнет.
Ничто так не увлекает, не втягивает человека, как мечтания. Сначала заведется в мозгах не больше горошины, а потом начнет расти и расти, и наконец вырастет целый дремучий лес. Вырастет, встанет перед глазами, зашумит, загудит, и вот тут-то именно и начнется настоящая работа. Всего здесь найдется: и величие России, и конституционное будущее Болгарии, и Якуб-хан, достославно шествующий по стопам Шир-Али, и, уже само собою разумеется, выигрыш в двести тысяч рублей.
Что понравилось, то и выбирай. Ежели загорелось сердце величием России – займись; ежели величие России прискучило – переходи к болгарам или к Якуб-хану. Мечтай беспрепятственно, сочиняй целые передовые статьи – все равно ничего не будет. Если хочешь критиковать – критикуй, если хочешь требовать – требуй. Требуй смело; так прямо и говори: «Долго ли, мол, ждать?» И если тебе внимают туго, или совсем не внимают, то пригрозись: «Об этом, дескать, мы поговорим в следующий раз…»
Ужасно! ужасно! ужасно!
Говорю по совести: возможность удовлетворять потребности мечтания составляет едва ли не самую сладкую принадлежность умирания. Мечта отуманивает и, следовательно, устраняет из процесса умирания все, что могло бы встревожить пациента слишком назойливой ясностью. Мечта не ставит в упор именно такой-то вопрос, но всегда хранит в запасе целую свиту быстро мелькающих вопросов, так что мысль, не связанная обязательным сосредоточением, скользит от одного к другому совершенно незаметно. Даже последовательности в работе ее не замечается, хотя связь, несомненно, существует. Но она скрывается в тех моментах забытья, в которое человек непроизвольно погружается под влиянием мысленных мельканий. Это забытье совсем не пустопорожнее, как можно было бы предполагать, и в то же время очень приятное. Мелькнет один предмет, остановит на себе минутное внимание, и почти вслед за тем погрузит мысль в какую-то массу полудремотных ощущений, которые невозможно уловить, – до такой степени они быстро сменяются одно другим. Затем вынырнет другой предмет, и непременно вынырнет в последовательном порядке, но так как этому появлению предшествовало «забытье», то определить, в чем заключается «порядок» и что именно обусловило перемену декораций, представляется невозможным. Повторяю: ужасно это приятно. Ходишь, думаешь, наверное знаешь, что нечто думаешь, но что именно – не скажешь. Какая открывается при этом безграничная перспектива приволья, свободы, безответственности! И безответственности не только перед самим собой (это-то не штука), но и перед начальством. Поймите, как это хорошо! Тяжело ведь вечно так жить, чтобы за все и про все ответ держать: нужно хоть немного и так пожить, чтобы ни за что и ни перед кем себя виновным не считать. Хочу – умные мысли мыслю, хочу – легкомысленничаю… кому какое дело!
Тем не менее, как ни мало определенны были мои зимние мечтания, я все-таки некоторые пункты могу здесь наметить. Чаще и упорнее всего, как и следует ожидать, появлялся вопрос о выигрыше двухсот тысяч, но так как вслух сознаваться в таких пустяках почему-то не принято (право, уж и не знаю, почему; по-моему, самое это культурное мечтание), то я упоминаю об этом лишь для того, чтобы не быть в противоречии с истиной. Затем выступали и вопросы серьезные, между которыми первое место, разумеется, принадлежало величию России. Я считаю нелишним изложить здесь главные тезисы моих мечтаний по этому вопросу, заранее, впрочем, извиняясь перед читателем в той неудовлетворительности, которую он, наверное, приметит в моем изложении. Увы! я и до сих пор не могу вместить свободы книгопечатания и вследствие этого иногда чересчур храбрюсь, но в большей части случаев – чересчур робею.
Я знаю, есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают не только пагубный индифферентизм, но даже значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. По совести объявляю, что это – самая наглая ложь. Я уже не говорю о том, что обвинение это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менее в этом виноват. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас… положим, у нас хоть и не так хорошо… но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но все-таки логика, и именно – логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Болит сердце, болит, но и за всем тем всеминутно к источнику своей боли устремляется…
Но этот же культ, вероятно, и служит предлогом для обвинений, о которых идет речь. Есть люди (в последнее время их даже много развелось), которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси, которые суконным языком выкликают: «Звон победы раздавайся!» и зияющими впадинами, вместо глаз, выглядывают окрест: кто не стучит в перси и не выкликает вместе с ними? Это – целое постыдное ремесло. По моему мнению, люди, занимающиеся этим ремеслом, суть иезуиты. Разумеется, иезуиты русские, лыком шитые, вскормленные на почве крепостного права и сопряженных с ним: лганья, двоедушия, коварства и пр. Это – люди необыкновенно злые, мстительные, снабженные вонючим самолюбием и злой, долго задерживающей памятью, люди, от которых можно тогда лишь спастись, когда они вместе с бесконечной злобой соединяют и бесконечную алчность к ловлению рыбы в мутной воде. Тогда можно от них откупиться, можно бросить им кость в глотку. Но если они с адской злобой соединяют и адское бескорыстие и ежели при этом свою адскую ограниченность возводят на степень адского убеждения – тогда это уже совершенные исчадия сатаны. Они настроят мертвыми руками бесчисленные ряды костров и будут бессмысленными, пустыми глазами следить за предсмертными конвульсиями жертвы, которая, подобно им, не стучала в пустые перси…
Но отвратим лицо наше от лицемеров и клеветников и возвратимся к Монрепо и навеваемым им мечтаниям.
Я желал видеть мое отечество не столько славным, сколько счастливым – вот существенное содержание моих мечтаний на тему о величии России, и если я в чем-нибудь виноват, то именно только в этом. По моему мнению, слава, поставленная в качестве главной цели, к которой должна стремиться страна, очень многим стоит слез; счастье же для всех одинаково желательно и в то же время само по себе составляет прочную и немеркнущую славу. Какой венец может быть более лучезарным, как не тот, который соткан из лучей счастья? какой народ может с большим правом назвать себя подлинно славным, как не тот, который сознает себя подлинно счастливым? Мне скажут, быть может, что общее счастье на земле недостижимо и что вот именно для того, чтобы восполнить этот недостаток и сделать его менее заметным и горьким, и придумана, в качестве подспорья, слава. Слава, то есть «нас возвышающий обман». Но я – человек скромный; я не дипломат и даже не публицист и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы и кого, собственно, они обманывают. Я думаю, что это пустое и вредное кляузничество, – и ничего больше. Ужели человек, смотрящий на мир трезвыми глазами и чувствующий себя менее счастливым, нежели он этого желает, – ужели этот человек утешится тем только, что начнет обманывать себя чем-то заменяющим, не подлинным? Нет, он не сделает этого. Он просто скажет себе: «Ежели я в данную минуту не столь счастлив (а стало быть, и не столь славен), то это значит, что необходимо употребить известную сумму усилий, дабы законным путем добыть ту сумму счастья и славы, которая, по условиям времени, достижима». Вот и все. А насколько будут плодотворны или бесплодны эти усилия – это уж другой вопрос.
Руководясь этими скромными соображениями, я и в мечтаниях никому не объявил войну и не предпринял ни малейшей дипломатической кампании. А следовательно, не одержал ни одной победы и никого не огорошил дипломатическим сюрпризом. Вообще, моя мысль не задерживалась ни на армиях, ни на флотах, ни на подрядах и поставках и даже к представлениям о гражданском мундирном шитье прибегала лишь в тех случаях, когда, по издревле установленным условиям русской жизни, без этого уж ни под каким видом нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не можем быть без того, чтобы при этом сам собой не возник вопрос: а как же в сем случае поступали господа чиновники? Но тут-то именно и выяснилась полная доброкачественность моих мечтаний. «Что делали господа чиновники? – спрашивал я сам себя и тут же, после кратковременного „забытья“, ответствовал: – Ходили в мундирах – и больше ничего». Этим простым ответом, мне кажется, исчерпывалось все. И идея необходимости чиновников (ибо благополучие на их глазах созидалось, и они благосклонно допустили его) и идея не необходимости чиновников, ибо, говоря по сущей совести, благополучие могло бы совершиться и без них. Впрочем, по скромности моей, я более склонялся на сторону первой идеи. Да и картина выходила совсем особенная, русская. Ходят люди в мундирах, ничего не созидают, не оплодотворяют, а только не препятствуют – а на поверку оказывается, что этим-то именно они и оплодотворяются… Какое занятие может быть легче и какой удел – слаще?
Но ежели раз воинственные и присоединительные упражнения устранены, то картина благополучия начертывалась уже сама собой. В самом деле, что нужно нашей дорогой родине, чтобы быть вполне счастливой? На мой взгляд, нужно очень немногое, а именно: чтобы мужик русский, говоря стихом Державина: «Ел добры щи и пиво пил». Затем все остальное приложится.
Если это есть – значит, у мужика земля приносит плод сторицею. Если это есть – значит, страна кипит млеком и медом и везде чувствуется благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Если это есть – значит, деревни в изобилии снабжены школами, и мужик воистину познал, что ученье – свет, а неученье – тьма. Если это есть – значит, казна государева ломится под тяжестью сребра и злата и нет надобности ни в «выбиваниях», ни в экзекуциях для пополнения казенных сборов. Если это есть – значит, в массах господствует трудолюбие, любовь к законности, потребность тихого жития, значит, массы действительно повинуются не токмо за страх, но и за совесть. Если это есть – значит, за границу везутся заправские избытки, а не то, что приходится сбывать во что бы то ни стало, вследствие горькой нужды: вынь да положь.
Если это есть – значит, у мужика есть досуг, значит, он ведет не прекратительную жизнь подъяремного животного, а здоровое существование разумного существа, значит, он плодится и множится. Если это есть – значит, курное логовище уступило место подлинному жилищу, согласованному с человеческими потребностями. Если это есть – значит, правда и милость царствуют в судах, значит, нечего и судить, так что адвокаты щелкают зубами, а судьи являются в места служения лишь для получения присвоенного им содержания. Если это есть – значит, монополия не впивается когтями в беззащитную жертву и не рвет ее внутренностей. Если это есть – значит, государственная казна не расточается, а государственное имущество охраняется и процветает. Если это есть – значит, рубль равен рублю…
Вот сколько отличнейших представлений заключает в себе такой простой факт, как общедоступность «добрых щей»! Спрашивается: ужели в целом мире найдется народ, более достойный названия «славного», нежели этот, вкушающий «добры щи» народ?
Кажется, что мечтать на эту тему – ничего? Даже Грацианов – и тот, думается мне, не найдет тут «возбуждения пагубных страстей»? Пагубных страстей – к чему? К «добрым щам»?
Итак, я мечтал на тему о величии России. Я всем желал всего доброго, всего лучшего. Чиновнику – чинов и крестов с надписью: «За отдохновение»; купцу – хороших торгов и медалей; культурному человеку – бутылку шампанского и вышедшее в тираж выкупное свидетельство; мужику – «добрых щей». И при этом, как человек, одаренный художественными инстинктами, я так живо представлял себе благополучие этих людей, что они метались перед моими глазами, как живые. Все были поперек себя толще, у всех лица лоснились под влиянием хорошего житья и внутреннего ликования. Но в особенности хорош был мужик, так хорош, что я по целым часам вел с ним мысленную беседу.
– Ну что, милый человек, – спрашивал я, – бунтовать больше не будешь?
– Помилуйте, ваше скородие, – отвечал он, – уж ежели мы во время секуциев – и то, значит, со всем нашим удовольствием, так теперича и подавно нас за эти самые бунты…
При этих словах обыкновенно наступало «забытье» (зри выше), и дальнейшие слова мужика стушевывались; но когда мысленная деятельность вновь вступала в свои права, то я видел перед собой такое довольное и добродушное лицо, что невольно говорил себе: «Да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору!» Недоимки все с него сложены, подушная подать предана забвению… чего еще нужно! И он славословит воистину, не так, как культурные люди, когда получат подачку, – с расшаркиваньем и целованием в плечико, – а скромно и истово, а именно: ест «добры щи» во свидетельство, что сердце в нем играет под бременем благодарности и ликования.
Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему – ничего!
Даже свое Монрепо – и его я как-то сумел пристегнуть к мечтаниям о величии России. Представьте себе, что вдруг, по щучьему велению, по моему хотенью, случился такой анекдот. Мой лес из дровяного неожиданно сделался строевым; мои болота внезапно осушились и начали производить не мох, а настоящую съедобную траву; мои пески я утилизировал и обработал под картофельные плантации, а небольшая запашка словно сбесилась, начала родить сам-двадцат [7]. (Увы! в мечтах и не такие метаморфозы возможны!) Разве это «не величие России»? И к довершению всей этой чертовщины, в каких-нибудь ста шагах от моего крыльца прошла железная дорога, которая возит не вывезет произведения Монрепо. Капуста, которую едят петербургские чиновники, – это все моя; белоснежная телятина, которой щеголяет английский клуб по субботам, – тоже моя. Огурцы, морковь, репа, прессованное сено, молочные скопы, кормные индейки – всего пропасть и всё мое. А дрова? а рыба, в изобилии извлекаемая из Финского залива? а прочие произведения природы, их же имена ты, Господи, веси? Что, если и во всех других Монрепо идет такая же волшебно-производительная галиматья, как и в моем? что, если вдруг воспрянули от сна все Проплеванные, все Погореловки, Ненаедовки, все взапуски принялись рожать, и нет на дорогах проезда от массы капусты, огурцов, редьки и прочего?
Возгордимся мы или не возгордимся тогда? – вот вопрос! Я думаю, однако ж, что не возгордимся, потому что, во-первых, ведь ничего этого на деле нет, а ежели нет ничего, то, стало быть, и во-вторых и в-третьих, все-таки ничего нет.
Во всяком случае, повторяю вновь: мечтать на эту тему – ей-Богу, ничего!
Ничего? но кто же сказал это? Кто же удостоверил, что ничего? А может быть, это-то и есть самое оно. А может быть, тут-то, в этих беспардонных мечтах, и кроется «возбуждение пагубных страстей»! Кто сказал: ничего? Тяпкин-Ляпкин сказал? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Тяпкин-Ляпкин, сказали: ничего? И так далее.
Прекрасно. Стало быть, это – не ничего? Так и запишем. Нельзя мечтать о величии России – будем на другие темы мечтать, тем более, что, по культурному нашему званию, нам это ничего не значит. Например, конституционное будущее Болгарии – чем не благодарнейшая из тем? А при обилии досуга даже тем более благодарная, что для развития ее необходимо прибегать к посредничеству телеграфа, то есть посылать вопросные телеграммы и получать ответные. Ан время-то, смотришь, и пройдет.
Сказано – сделано. Посылаю телеграмму N 1-й: «Митрополиту Анфиму. Настоятельно прошу ответить, будет ли у вас конституция?» Через четверть часа получен ответ: «Братолюбивому господину Монрепо. Конституция, сиречь устав о предупреждении и пресечении – будет. Анфим».
Не удовольствовавшись этим объяснением, посылаю телеграмму N 2-й: «Благородному господину Балабанову. Экзарх Анфим уведомляет: будет-де у вас конституция, сиречь исправительный устав. Правда ли?» Через четверть часа ответ: «Благородному господину Монрепо. На то похоже. Коллежский асессор Балабанов».
Тогда, чтоб убедиться окончательно, посылаю телеграмму N 3-й: «Благородному господину Занкову. Что же, наконец, у вас будет?» И через новые четверть часа получаю новый ответ: «Будет, что Бог даст. Губернский секретарь Занков».
Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопрос о конституционном будущем Болгарии исчерпанным и посылаю четвертую, общую телеграмму: «Митрополиту Анфиму. Пью за болгарский народ!» А через четверть часа получаю ответ: «Братолюбивому господину Монрепо. Не находим слов выразить, сколь для болгарского народа сие лестно. Анфим».
И таким образом, в какой-нибудь час времени – все кончено.
Кажется, что на эту тему мечтать – ничего?
Но если бы и тут оказалось не «ничего», то, делать нечего, возьмем за бока Афганистан. Ужасно меня с некоторых пор интригует Якуб-хан. Коварен, как всякий восточный человек, и в то же время, подобно знаменитому своему отцу, склонен к присвоению государственной афганистанской казны. Пойдет он или не пойдет по следам Шир-Али относительно коварного Альбиона? Ежели пойдет, то рано или поздно быть ему водворенным в губернском городе Рязани. Ежели не пойдет, то и тут Рязани ему не миновать. В первом случае – в знак гостеприимства, во втором – в знак забвения бунтов. Но во всяком разе он предварительно вывезет из своего места бесчисленное множество лаков рупий и доставит их в то место, которое ему будет назначено для гостеприимства. Рязань украсится, оплодотворится и в несколько месяцев сделается неузнаваемой. В соборе заблаговестит новый колокол, на пожарном дворе явится новая пожарная труба, а что касается до дамочек, то они изобретут, в пользу Якуб-хана, такое декольте, от которого содрогнутся в гробе кости Шир-Али. Словом сказать, весь обряд гостеприимства будет выполнен в точности. Но что же затем? Затем, разумеется, все пойдет обычным порядком. Сначала явится разбитной малый из местных культурных людей и даст рупиям приличествующее назначение; потом начнется по этому случаю судоговорение, и в Рязань прибудет адвокат и проклянет час своего рождения, доказывая, что назначение рупиям дано вполне правильное и согласное с волей самого истца; и, наконец, Якуб-хану, в знак окончательного гостеприимства, будет дозволено переехать в Петербург, где он и поступит в ресторан Бореля в качестве служителя…
Нечего и прибавлять, конечно, что русские интересы будут при этом так строго соблюдены, что даже «Московские Ведомости» – и те останутся довольны…
Кажется, что на эту тему мечтать – ничего?
Но ежели и это не «ничего», то к услугам мечтателя найдется в Монрепо не мало и других тем, столь же интересных и уж до такой степени безопасных, что даже покойный цензор Красовский – и тот с удовольствием подписал бы под ними: «Мечтать дозволяется». Во-первых, есть целая область истории, которая представляет такой неисчерпаемый источник всякого рода комбинаций, сопряженных с забытьём, что сам мечтательный Погодин – и тот не мог вычерпать его до дна. Возьмите, например, хоть следующие темы:
Что было бы, если б древние новгородцы не последовали совету Гостомысла и не пригласили варягов?
Где был бы центр тяжести, если б вещий Олег взял Константинополь и оставил его за собой?
Какими государственными соображениями руководились удельные князья, ведя друг с другом беспрерывные войны?
На какой степени гражданского и политического величия стояла бы в настоящее время Россия, если б она не была остановлена в своем развитии татарским нашествием?
Кто был первый Лжедмитрий?
Если б Петр Великий не основал Петербурга, в каком положении находилась бы теперь местность при впадении Невы в Финский залив, и имела ли бы Москва основание завидовать Петербургу (известно, что зависть к Петербургу составляет историческую миссию Москвы в течение более полутора веков)?
Почему, несмотря на сравнительно меньшую численность населения, в Москве больше трактиров и питейных домов, нежели в Петербурге? Почему в Петербурге немыслим трактир Тестова?
Попробуйте заняться хоть одним из этих вопросов, и вы увидите, что и ваше существо, и Монрепо, и вся природа – все разом переполнится привидениями. Со всех сторон поползут шепоты, таинственные дуновения, мелькания, словом сказать, вся процедура серьезного исторического, истинно погодинского исследования. И, в заключение, тень Красовского произнесет: «Мечтать дозволяется».
О, тень возлюбленная! не ошибкой ли, однако, высказала ты разрешительную формулу? повтори!
Во-вторых, имеется другая, не менее обширная область – кулинарная. Еще Владимир Великий сказал: «Веселие Руси пити и ясти», и в этих немногих словах до такой степени верно очертил русскую подоплёку, что даже и доныне русский человек ни на чем с таким удовольствием не останавливает свою мысль, как на еде. А так как объектом для еды служит все разнообразие органической природы, то не трудно себе представить, какое бесчисленное количество механических и химических метаморфоз может произойти в этом безграничном мире чудес, если хозяином в нем явится мечтатель, охотник пожрать!
В-третьих, в-четвертых, в-пятых… я, конечно, не буду утомлять читателя дальнейшим перечислением подходящих сюжетов и тем. Скажу огулом: мир мечтаний так велик и допускает такое безграничное разнообразие сочетаний, что нет той навозной кучи, которая не представляла бы повода для интереснейших сопоставлений.
Итак, я мечтал. Мечтал и чувствовал, как я умираю, естественно и непостыдно умираю. В первый раз в жизни я наслаждался сознанием, что ничто не нарушит моего вольного умирания, что никто не призовет меня к ответу и не напомнит о каких-то обязанностях, что ни одна душа не потребует от меня ни совета, ни помощи, что мне не предстоит никуда спешить, об чем-то беседовать и что-то предпринимать, что ни один орган книгопечатания не обольет меня помоями сквернословия. Одним словом, что я забыт, совсем забыт.
Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Вне дома – то же одиночество и та же пустота. По временам парк заволакивался, словно сетью, падающими хлопьями снега; по временам деревья как бы сбрасывали с себя иго оцепенения и, колеблемые ветром, оживали и шевелились; по временам из лесной чащи даже доносился грозный гул. Но взор и слух скоро привыкали и к этим картинам и к этим звукам. Зимняя природа даже и в гневе как-то безоружна, разумеется, для тех, которых нужда не выгоняет из теплой комнаты. Вот в поле, в лесу – там, должно быть, страшно. Можно сбиться с дороги, подвергнуться нападению волков, замерзнуть. Но в комнате, где градусник показывает всегда один и тот же уровень температуры, где и тепло, и светло, и уютно, все эти морозы и вьюги могут даже подать повод для благодарных сопоставлений.
И не только для благодарных, но и для поучительных сопоставлений. Ибо если хорошо быть совсем обеспеченным от морозов и вьюг, то еще большее наслаждение должен ощущать тот, кто, испытав мороз и вьюгу, кто, проплутав до истощения сил по сугробам, вдруг совсем неожиданно обретает спасение в виде жилья. Представьте себе этот почти волшебный переход от холода к теплу, от мрака к свету, от смерти к жизни; представьте себе эту радость возрождения, радость до того глубокую и яркую, что для нее делаются уже тесными пределы случая, ее породившего. Да, это – радость совсем особенная, лучезарная, ни с чем не сравнимая. Не один этот случай осветила она своими лучами; но разом втянула в себя целую жизнь и на все прошлое, на все будущее наложила печать избавления. В эту блаженную минуту нет места ни для опасения, ни для тревог. Все опасности миновали, все тревоги улеглись; все больное, щемящее упразднилось – навсегда. Во всем существе разлилась горячая струя жизни, во всех мыслях царит убеждение, что отныне жизнь уже пойдет не старой, горькой колеей, а совсем новым, радостным порядком. Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь одну минуту, но зато какая это минута… Боже, какая минута!
Истинно говорю, это – наслаждение великое, и, с теоретической точки зрения, отсутствие его в жизни людей, проводящих время в теплых и светлых комнатах, представляет даже очень значительный пробел.
Между прочим, я мечтал и об этом, и это были мечтания поистине отрадные. Сначала я душевно скорбел, рисуя себе картину путника, выбивающегося из сил; но так как я человек добрый, то, разумеется, не оставлял его до конца погибнуть и в критическую минуту поспешал на помощь и предоставлял в его распоряжение неприхотливое, но вполне удовлетворительное жилье. И глубока была моя радость, когда вслед затем перед моими глазами постепенно развертывалась картина возрождения…







