
Михаил Фёдоров
Два всадника на одном коне
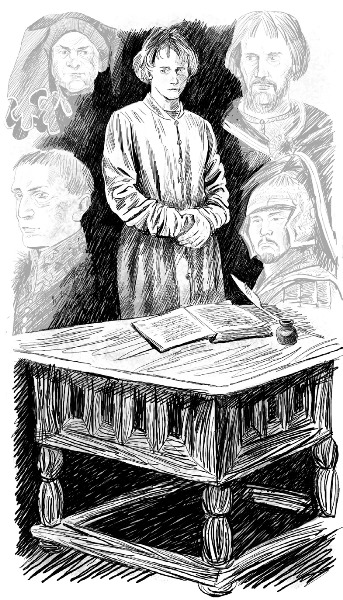
О Конкурсе
Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.
В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года, что происходит до настоящего времени. Второй Конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей: повестей, рассказов, стихотворных произведений. В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов. В 2016 году были объявлены победители пятого Конкурса.
Отправить свою рукопись на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.
Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его «подростковом секторе». Их отличает актуальность и острота тем (отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка.
В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-листы конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.
Книги серии нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года 2014» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» именно за эту серию.

Два всадника на одном коне
Историческая повесть

Часть первая
Неспокойное время

Глава первая
Я – Василий, сын кузнеца
Здравствуйте! Меня зовут Вася. Ну или Василий, если полностью. Правда, это имя мне дали в церкви, а дома называют по-другому – Вьюн. Отец рассказывал, что когда я был ещё совсем маленьким, то ни минуты на месте не сидел. Чуть только недосмотрят, сразу ползу куда-то, чаще всего – за порог. Бабка Секле́тия, ворожея, что заходила к нам по-соседски, так и говорила: «У-у, шустрый какой, чисто вьюн речной! Из избы всё норовит – чаю, по отцовской тропке ему не хаживать». С тех пор и повелось – Вьюн да Вьюн. А уж когда пошёл, тогда совсем матери покоя не стало! Ей ведь надо и за мной присматривать, и в избе прибираться, и кашу со щами варить.
Хорошо ещё, отец у меня не крестьянин, а кузнец. Не надо ему в поле пропадать от темна до темна. Всё время при кузне, что возле дома пристроена. Куёт на заказ лемеха, стремена да ободья колёсные. Ну и оружие, конечно. В наше время без оружия никак. Время сейчас тревожное. Да что там – сейчас! Оно у нас всегда неспокойное. Только и слышно: то там князья что-то не поделили, друг дружке земли разоряют, то здесь ордынцы в набег пошли. А страдают больше всех мужики простые. Да ещё землица наша Рязанская на самом краю Руси. Ордынцы ведь к нам в первый черёд наведываются.
Отец мой, Иван, по прозвищу Векша, – кузнец отменный, он не только всю нашу округу коваными изделиями обеспечивал, но к нему даже издалека приходили – из Коломны, Каширы и Рязани. Были даже из Тулы и Москвы, хотя там и своих хороших кузнецов хватает. А Векша – это прозвище ему от отца досталось, деда моего. Дед был хорошим охотником, вот и прозвали его Векша – «белка» значит. Он их знатно бил из лука. Если какую увидел, не уйти ей, пойдёт на шапку.
Так вот, отцовские мечи всегда были лучше других. Ведь для того, чтобы хорошее изделие выковать, много хитростей знать надо. Отец сначала железо год в торфяном болоте выдерживал, потом пучок железных прутьев раскаливал в кузнечной печи добела – и ну охаживать тяжеленным молотом! Я такой молот даже поднять не мог. После остудит и ещё раз, и ещё! А под конец закаливал в кадке с постным маслом. Получались очень крепкие мечи серо-синего цвета, с красивым рисунком, если отполировать. Но и стоили они недёшево, ведь один хороший меч надо было ковать несколько дней. И железо дорогое. Его ведь тоже не так просто добыть.
Было какое-то место на болоте, где отец руду железную копал. Никто не знал, когда и куда он два-три раза в год отправлялся на недельку за рудой. Боялись за ним ходить, говорили – на болоте одни упыри да болотники живут. Кузнеца они опасаются, ведь его ремесло – от Бога, а простому человеку могут какую-нибудь пакость сделать. Некоторые отчаянные головы пытались сами в болоте копаться, но так никакой руды и не нашли. Или нашли, но такую, из которой хорошего железа не сделаешь. А отец только посмеивался: мол, не по Сеньке шапка. А мне, мальцу, говорил:
– Руда – это только полдела, тут ещё и правильный уголь нужен. Вот, например, уголь из ольхи или осины не подойдёт. Жар он не тот даёт да и железо грязнит. А вот берёза или дуб – то что надо. Только из дуба я уголь не жгу. Дуб для построек нужен: не гниёт и от времени только крепче становится. А берёзовый уголь – в самый раз. И жар даёт сильный да ровный, и в железе пепла не оставляет. Да и берёз в наших краях много, а силу они набирают куда быстрее дубов.
А я так думаю, что кроме правильных руды и угля нужны ещё и правильные руки и голова. Вот тогда из кузни и выйдут правильный меч или серп.
Пока я маленький был, отец меня не сильно работой загружал. Нет, я, конечно, помогал чем мог. Ну там поднести что-нибудь, на что сил хватит, – квасу ковш подать или ещё что. Да и приглядывался, осваивался потихоньку. Молотом мне было махать несподручно – тяжёл больно, а вот сколько и как в плавильную печь загрузить руды да угля, чтобы хорошее железо вышло, или как правильно розжиг для ковки делать, дабы расход топлива был поменьше, – это я уже знал. Даже помогал отцу мерным совком отсыпать и уголь берёзовый, и руду болотную.
Но всё это занимало немного времени. А летом в деревне приволье! По грибы да ягоды мы с друзьями, конечно, не ходили – это девчачье дело. А вот за рыбой на речку бегали часто. И ладно бы, если б только сами ловили, так нет! Пару раз выпотрошили рыбачьи сети. В первый раз сошло с рук, а во второй…
Антоха-рыбак, кажется, после того, как у него улов пропал, заподозрил что-то и стал высматривать, кто это повадился к нему сети опорожнять. Ну и высмотрел. Выбегает – страшный, зубы оскалены, глаза горят, а у самого нож в руке, которым он рыбу кромсает. Хороший нож, острый, немного изогнутый, и режущая кромка внутри изгиба – таким удобно чешую чистить. Его отец ковал по заказу Антохи. Мы понимали, разумеется, что нож у него – только для острастки, но всё равно жутковато было.
Нет, мы от него, конечно, убежали, он ведь хроменький, быстро бегать не может. Но когда я вечером вернулся домой, отец встретил меня на пороге, поигрывая розгой…
В общем, на следующий день я на улицу не выходил – отлёживался в избе. А отец, подавая мне квасу, всё повторял:
– Нельзя, сынок, обижать тех, кто пропитание себе по́том да мозолями зарабатывает, нельзя, последнее это дело!
Этот урок я усвоил крепко. Даже не так больно от розги было, как перед отцом стыдно.
Еще хотели мы как-то забраться в подворье к бабке Секлетии за яблоками – она ведь не по́том и мозолями себе на жизнь зарабатывает, а заговорами. А про это я отцу ничего не обещал! Но побоялись: Секлетия ведь ворожея, почти колдунья. Об этом никто вслух не говорил, особенно от нас, несмышлёнышей, скрывали. Но шептались. Да, шептались. Священник наш, отец Алексий, на Секлетию искоса посматривал – видно, знал про её деяния. Или догадывался. Он ведь наш, местный. Сказывают, Секлетия как-то давно мать Алексия от какой-то жуткой хвори вылечила. В общем, не полезли мы к ней. Вдруг прознает, кто яблоню ободрал? Ещё болячку какую нашлёт или превратит в жабу!
Говорили, что она по ночам улетает в окно по своим ведьмачьим делам верхом на голике[1], но я сам не видел, а в сплетни эти не очень-то верил. Скажите, ну как можно летать на голике? Видел я этот голик – крыльев у него нет, и вряд ли вырастут. Спору нет – сам голик, конечно, полетит, если его, хорошенько размахнувшись, швырнуть куда-нибудь. Может, голик сам, без Секлетии, летал? Мало ли, ветром подхватило и понесло? Ну уж не знаю. В конце концов я перестал об этом думать. Тут думай не думай, ничего не изменится. Да и враки это, скорее всего.
Однако слава за Секлетией тянулась такая, что лучше её не злить. Поэтому мы, от греха подальше, решили к ней в подворье не лазать, а занялись рыбалкой, стрельбой из лука да помогали родителям по хозяйству.
Глава вторая
Горе
Вот так мы и жили. И всё было хорошо, пока с матерью беда не случилась. Пошла она как-то зимой на речку бельё полоскать. А полынья там большая: всё село ходит, края накатанные, с ледяной коркой. Обычно там пешнёй[2] засечки делают, чтобы не скользить, или деревянные мостки кладут. А тут мостков не оказалось: уволок кто-то. То ли из шалости, то ли просто по глупости. Поскользнулась мать и ухнула в прорубь с головой. Течение там несильное было, под лёд сразу не уволокло, но и вылезти из проруби самой не удалось. Кричала она, кричала, да разве кто услышит! Хорошо, мужики из леса с дровами ехали! подбежали, вытащили, в сухой тулуп закутали. Так и привезли домой. Отец, как узнал, кузню бросил, меня за бабкой Секлетией послал, сам рядом хлопочет. А мать лежит, жар уже у неё, глаза затуманились, губы обметало.
Лечили её до весны. Бабка Секлетия отвары из заветных трав варила, в бане её парила, давала мёд с чабрецом, багульником и мать-и-мачехой. Ничего не помогало. Матери становилось хуже и хуже. И как-то утром, когда уже солнышко стало жарче припекать, а с крыш закапало, бабка Секлетия перекрестилась, закрыла ей глаза и сказала:
– Всё, догорела!
Я тогда заплакал, хоть и был уже взрослым – десять годков, как-никак.
Когда я жил уже при княжьем дворе в Рязани (об этом расскажу немного позже), то наблюдал, как в церкви догорают свечи. Они становятся совсем маленькими, и пламя тоже делается маленьким и коротким, всё меньше и меньше, а потом гаснет, только облачко белого пара улетает вверх. Так и мамина душа улетела в небо белым облачком.
Дьяк Варсонофий, которому я помогал служить в рязанской церкви, показал мне, как можно зажечь погасшую свечу. Нужно держать наготове горящую лучину и просто поднести её к белому облачку. Оно вспыхнет, огонь перекинется на фитиль, и свеча снова загорится. Только надо, чтобы это был не малюсенький огарочек, а большая свеча. Потому что огарок всё равно потом быстро погаснет.
Я думаю иногда: свечи почти как люди, так же горят и гаснут. Одни горят ровно, ярко, другие чадят. Задуть свечу, когда она догорела только до половины, – это как убить человека в расцвете лет. Если найдётся кто-то, кто подожжёт улетающее белое облачко, то свеча будет гореть ещё долго. Если найдётся кто-то, кто воскресит убитого, последний тоже будет жить долго. Только нет таких людей, кто мог бы воскрешать. Варсонофий говорит, что Иисус воскрешал, когда жил среди людей, но это ведь давно было и не у нас. Да и не человек он, а Бог.
Похоронили маму в середине марта. Помню, как соседские мужики жгли на мёрзлой земле костры, чтобы выкопать могилу. Когда гроб опускали, у отца слёзы в глазах стояли. А уж про себя я и не говорю.
С этого дня как-то пусто стало в избе. Отец ходил грустный, старался подольше в кузне пропадать – уходил рано утром, в избу возвращался только поздно вечером. Стал поговаривать, что надо бы перебираться в другое место – не может он здесь находиться. Но уйти мы никуда не успели.
Летом в наше село пришла большая беда. Сначала, правда, никто и не посчитал это бедой. Появились какие-то иноземцы. Было это посольство к ордынскому хану от фрязей[3], что в Крыму[4] живут. Рядом с селом проходит наезженный тракт с полудня[5] на Орду, по нему многие и ездят, и ходят. Вот и тогда десятка два всадников остановилось в нашем селе переночевать. Разместились в избах зажиточных хозяев, а один, толмач, толстый такой, все рыскал по селу, фыркал презрительно: то ему не так, это не этак. Увидит лужу и начинает зудеть:
– Фу, у нас в Генуе городские власти такого не допускать. Хозяин, возле который дом такое есть, – штраф платить.
Мужики наши молча слушали его да дивились. А толмач дошёл до церкви и совсем уж скривился:
– Фу, еретики, язычники!
На беду его, оказался рядом отец Алексий. Глянул он на иноземца сердито, потом перекрестился, прошептал: «Прости, Господи!» – и так хватил его ручищей по затылку, что полетел фрязин в пыль кубарем. Даром что толстый да тяжёлый! Поднялся – и задал стрекача. Отец Алексий здоровенный, словно битюг, ладони как сковородки. Кулак сожмёт – аж смотреть страшно! Такого лучше не сердить. Толмач тоже это понял и решил бежать за подмогой. А я следом за ним увязался, чтобы предупредить отца Алексия об опасности, если фрязи решат вступиться за своего.
Но всё обошлось. Я видел издали, как он подбежал к своим – и ну что-то лопотать! Но их старший не долго слушал. Грозно так брови сдвинул, цыкнул что-то сердито, и толмач тут же замолчал. Видно, здо́рово он их допёк своей суетливостью. Правда, толмач всё равно спокойно сидеть не смог и, завидев вдали мельницу, побрёл смотреть. И что его там заинтересовало? Неужто в его Генуе ветряных мельниц нет? Хотя, может, и правда нет. Их и у нас-то мало пока. Отец говорит, что на Рязанщине точно больше нет. Может, в Москве или Туле есть? В Нижнем Новгороде или Новгороде Великом – вряд ли. Там рек и речушек много, скорее водяную мельницу поставят. А ветряк – это как раз для наших мест, где лес в степь переходит.
Вечером неспокойный фрязин забрёл в отцову кузню. Не знаю уж, чем отец так расположил его к себе, но, когда я подошёл, он с восхищением разглядывал только что выкованный меч. Пробовал его на ноготь, бил наотмашь и тычком, даже нюхал и лизал. Сразу видно: человек в этом деле толк знает. Только и слышно было от него:
– Бене, экселент, превосходно!
А потом как узнал, что отец ставил тот мельничный ветряк, совсем разволновался. Начал что-то быстро говорить, то по-нашему, то по-своему. И по плечу отца похлопывал. О чём речь шла, я уже не слышал, потому что отец отослал меня из кузни. Но я в окошко подглядывал: отец сначала улыбался, потом перестал, засмурнел и стал головой мотать. Иноземец заговорил громче, стал даже повизгивать и подпрыгивать на месте. Смешно: как будто колобок на ножках скачет.
Отец слушал-слушал, потом взял его за шиворот и молча выставил за ворота. Повезло фрязину: если б отец поступил с ним как и Алексий, то не дошёл бы тот до ночлежной избы сам – пришлось бы товарищей звать, чтобы отнесли. Отец-то ещё посильнее батюшки будет, хоть и ростом поменьше. Да и то: помахай молотом с его – силёнок здорово прибавится.
Левая рука, правда, у него в локте плохо гнулась и трёх пальцев не было, только на мастерстве да на силе это никак не сказывалось. Откуда у отца такое увечье, я до поры до времени не знал. Да уж ладно – потом об этом расскажу.

Спросил я тогда отца, о чём они с фрязином говорили. Он скрывать не стал:
– Понравилось ему, какие я мечи умею ковать. Хотел, чтобы ушел я с ними в Крым, а оттуда в Геную, что во фряжской земле. Говорит, что таким мастерам там большой почёт и уважение. А когда я отказался, угрожать начал. Вот я его и выставил со двора.
– Ты ведь говорил, что и сам решил отсюда уходить.
– Отсюда, да не с русской земли. Переберёмся в Рязань, Тулу или Москву. Главное, чтобы свои рядом были. Не пропадём, сынок.
– А он мстить не будет?
– Нет, сын. Пустой он человек, зряшный. Пойдём-ка лучше в избу: солнце уже садится.
Отец уложил меня на печь, сам устроился на широкой лавке, постелив тулуп. Я слышал, как он ворочается и вздыхает. Потом спросил:
– Сын, ты спишь?
– Нет.
– Ты этого фрязина запомни. Человек он, конечно, сам по себе никчёмный. Только чует моё сердце: пришёл он в нашу землю не просто так.
Отец немного помолчал. Я тоже молчал, не решаясь вставить слово.
– Сын, ты не заснул?
– Нет.
– Очень уж мне не понравился его перстенёк.
– Чем не понравился, батя?
– Да всем! Странный он у него какой-то. Такие важные толмачи при посольстве не могут носить перстни из простого железа.
– Из железа?
– Да, сын. Из простого железа. Уж я-то могу распознать это с полувзгляда.
– Может, там самоцвет какой?
– Нет там самоцвета. Просто железный перстень. А вместо камня печатка – два всадника на одном коне. Сдаётся мне, для опознания это.
– Для какого опознания?
– А чтобы соплеменники узнали его всюду, где бы он ни появился. И чтобы он по такому же знаку других узнал. А коли уж есть необходимость в таком перстне, значит, везде они могут быть, но о себе громко говорить не хотят – хоронятся. Так что ты запомни печатку – два всадника на одном коне, авось пригодится. И не просто два всадника, а два воина – в шлемах, кольчугах и с копьём. Ну ладно, спи.
Он перевернулся на другой бок и через минуту захрапел. А я ещё долго лежал и не мог заснуть. Что же это за странная печатка такая? Может, это два странника на одном коне? Тогда копьё зачем? Или в странствиях без копья – никак? И то верно: время сейчас суровое, без оружия не попутешествуешь. Размышляя таким образом, я уснул.
А ещё через три недели в село пришли ордынцы…
Глава третья
Набег
Ордынцы пришли после полудня, когда отец, утомлённый утренней ковкой, прилёг отдохнуть. Налетели на село вихрем на своих быстрых невысоких лошадках. Было их, как мне потом рассказали, много – сотня или две. Где-то далеко, на другом конце села, послышался визг. Знающие люди говорят, что они всегда визжат, чтобы на врага страху нагнать. Я как услышал, выскочил на улицу: мимо проскакали двое ордынцев с луками в руках. Кривые сабли в ножнах болтались на левом боку. Один, повернувшись, выстрелил куда-то вбок и тут же быстро выдернул из саадака новую стрелу.
Я, спрятавшись за плетень, наблюдал за происходящим. И нет бы, дураку, укрыться в избе: стрельнут ведь, не посмотрят, что маленький. Они, говорят, стреляют во всё, что шевелится.
Откуда-то выскочил Антоха-рыбак и, даром что хромой, ловко подскочил ко второму ордынцу, ударил ножом снизу в живот и повернул лезвие в теле. Тот, кажется, даже почувствовать ничего не успел, кулём осел в седле и полетел вниз. А ножик-то – тот самый, которым Антоха нам за сети грозил, отцовский! Пригодился, выходит, для настоящего дела. Отбежать Антоха не успел. Первый ордынец, почуяв что-то звериным своим чутьём, развернулся и метко пустил стрелу. Антоха покатился на землю да так и остался лежать на обочине дороги, только пыль вокруг намокла от крови.
Что было дальше, я не видел. Отец, выбежав на улицу, схватил меня за шиворот и, как я ни брыкался, затащил в дом, засунул в подпол и придавил крышку чем-то тяжёлым, чтобы не вылез. А сам потоптался в избе – видно, доставал оружие, и потом всё стихло.
Откуда-то издалека до меня доносился шум, только не понять было, кто и что кричит. А может, это и не кричат вовсе, а что-то лязгает или скрипит. Разобрать я не мог. Внезапно наверху затопали – явно чужие! Их было двое или трое. Разбежались по избе, как будто что-то искали. Говорили не по-нашему и, кажется, не по-ордынски. Я чётко различил слово «нессуно»[6]. Голос был знакомым, и узнал я его сразу. Это был голос того самого толмача, что получил по шее от батюшки Алексия, а потом уговаривал отца уехать с ним в Крым.
Они еще немного потоптались наверху, там что-то звякнуло. Наверное, хватали всё что ни попадя. Отец как раз недавно закончил ковать два меча. Потом протопали на выход, и в избе стихло. Шум доносился только с улицы, сливаясь в однообразный тяжёлый гул. Нетрудно было догадаться, что там творилось: ордынцы грабили, убивали, жгли. В подполе запахло гарью. К счастью, здесь оставалось ещё достаточно воздуха, чтобы я не задохнулся. Отец как-то объяснял мне, что горячий дым всегда легче воздуха и ходит поверху, как щепка, которая всегда поверх воды плавает. Это меня и спасло.
Правда, сидеть в подполе мне пришлось долго – остаток дня и всю ночь. Когда гул пожара затих, я стал кричать, звать на помощь. Пытался сам выбраться из подпола, но всё было напрасно. Что же отец положил на крышку? Сильно хотелось пить и есть. Пить даже больше, потому что от сгоревшей избы в подполе стоял сильный жар.
Ближе к утру я уже перестал надеяться, что придёт отец и вытащит меня отсюда. Становилось трудно дышать, как бывает, когда летом долго сидишь в комнате с закрытыми окнами и дверьми. Хотя подпол устроен так, чтобы всё время был приток свежего воздуха – против плесени, но, видно, из-за пожара отдушины завалило. Иногда мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание.
В подполе было темно, свет с улицы сюда не проникал. Я даже не знал, что сейчас – ночь или утро. Мне начала мерещиться всякая чертовщина. Сначала показалось, что из тьмы на меня смотрит какая-то клыкастая морда, потом она пропала, и в углу засветилась жёлтым тонкая лучина. Потом и она исчезла, и сверху, кажется, что-то посыпалось. Я подумал, что это идут меня спасать, и крикнул. Но голоса своего не услышал: во рту пересохло, и кричать я не мог, только хрипел. В углу вдруг опять что-то засветилось. Слабое голубое сияние постепенно приобрело знакомые черты. Мама! Она смотрела на меня, грустно улыбаясь, а я настолько ослаб, что не мог не то что подойти к ней, а даже просто шевельнуть рукой или ногой. Потом свечение пропало, и мне вдруг стало казаться, что меня обнимает кто-то большой, сильный и недобрый. Обнимает и сдавливает, не давая вздохнуть. В голове у меня помутилось, и последнее, что я тогда запомнил, это открывающуюся крышку подпола и чей-то звонкий незнакомый голос:
– Глянь-ка, малец тут!
И я провалился в черноту…


