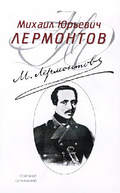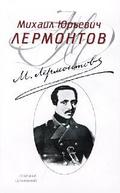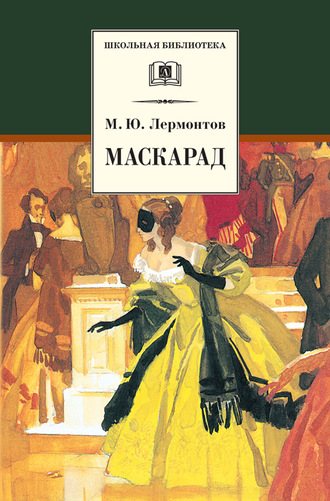
Михаил Лермонтов
Маскарад
© Куликова К. Ф., вступительная статья, 1990
© Асонова Д. А., иллюстрации, 1983
© Оформление серии, комментарии. Издательство «Детская литература», 2003
⁂


Петербургская драма Лермонтова
И свет не пощадил, и Бог не спас.
М. Ю. Лермонтов
Памяти А. И. Одоевского
Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов приехал в Петербург из Москвы, где он родился и где прошло его отрочество, в августе 1832 года. То было время реакционного удушья последекабристских лет.
«Чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, – писал Герцен о своем поколении, к которому принадлежал и Лермонтов, – надобно было с детства… сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а напротив, – давать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать бесконечной гордостью, чтобы, с кандалами на руках и ногах, высоко держать голову».
Всем этим с избытком был наделен странный, небольшого роста, некрасивый юноша с глубинным, умным взглядом темных глаз, казавшихся неподвижными. С четырехлетнего возраста он уже рифмовал фразы детского лепета, а к семнадцати создал цикл лирических стихов, не всегда зрелых, порой подражательных, но уже поражающих ни на кого не похожими гениальными строфами:
Враждебной силою гоним,
Я тем живу, что смерть другим:
Живу – как неба властелин –
В прекрасном мире – но один.
На долю Михаила Юрьевича Лермонтова с раннего детства, будто в романтической драме, выпало такое сплетение трагических страстей, надрывающей душу любви и непримиримой ненависти, что правда в них походила на кошмарный вымысел.
Зловещие слухи о смерти деда, Михаила Васильевича Арсеньева, отравившегося в 1810 году во время Рождества у себя дома из-за ревности к своей любовнице. Бессильное отчаяние его жены, Елизаветы Алексеевны, бабушки Лермонтова, ее далекий от христианского всепрощения возглас: «Собаке – собачья смерть!» Через три года после этого – замужество единственной ее дочери Машеньки, выбравшей, вопреки воле матери, небогатого и неродовитого красавца капитана Юрия Петровича Лермонтова. Сразу возникшая неприязнь Елизаветы Алексеевны, которая гордилась своим происхождением – из именитого рода Столыпиных, – к зятю: за неравенство положений, за происхождение из семьи шотландских выходцев, за легкомысленный нрав, за любовь к карточной игре. Все это предшествовало рождению 15 октября 1814 года Михаила Лермонтова, на котором сосредоточилась любовь троих не ладивших между собой людей – отца, матери, бабушки. И новая череда несчастий. Ранняя, в двадцатилетнем возрасте, смерть матери. Обвинения домашних в жестокости к ней мужа, будто бы ускорившей кончину Марии Михайловны. Еще бо́льшая ненависть между властной, желавшей получить маленького Мишеля полностью в свою власть бабушкой и отцом, с болью расстающимся с сыном. Ультимативно жестокое условие Е. А. Арсеньевой: «Завещеваю и предоставляю по смерти моей ему, родному внуку моему Михайле Юрьевичу Лермонтову, принадлежащее мне вышеописанное движимое и недвижимое имение… если же отец внука моего истребовает, чем не скрывая чувств моих нанесут мне величайшее оскорбление, то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мной движимое и недвижимое имение предоставляю уже не ему, внуку моему Михайле Юрьевичу Лермонтову, но в род мой Столыпиных…»
Четырнадцатилетняя борьба, полная нещадной вражды, вокруг вдумчивого, не по годам рано созревшего ребенка самых дорогих для него людей… И прощальное, предсмертное письмо к сыну Ю. П. Лермонтова, скончавшегося в 1831 году: «Благодарю тебя, бесценный друг, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою… Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для тебя потерью…»
И сразу же после смерти отца – исполненный глубокого драматизма, удивительный по художественному совершенству, по аналитическому осмыслению свершившегося, по неприятию суда светской «толпы» поэтический отклик семнадцатилетнего Михаила Лермонтова:
Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
……………………………..
Не мне судить, виновен ты иль нет. –
Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И стольких же насмешливых клевет.
В самом начале 30-х годов Лермонтов пишет много и увлеченно. То, что «вызревало в безмолвном гневе» и «ложилось на сердце», постепенно превращается в лирическую исповедь сына века, где лично пережитое приобретает обобщенный характер и общественный смысл.
⁂
С наибольшей силой мучительные обстоятельства детской и юношеской жизни Лермонтова отразились в его ранних драмах, написанных до приезда в Петербург. Боль семейных распрей оборачивалась в них далеко не детскими переживаниями. Первые неудачные любовные увлечения давали толчок к развитию сюжетов его драм.
К театру Лермонтов приобщился сразу, как приехал в конце 20-х годов в Москву из Пензенской губернии, где находилось имение Арсеньевой Тарханы. Бабушка, души не чаявшая в своем Мишеле, стремилась всячески приобщить его к благородному обществу, к светским увеселениям. Она возила его на знаменитые детские танцевальные вечера Иогеля, на приемы к своим знатным родственникам, знакомым и, разумеется, на театральные представления. Московский театр в те годы переживал пору своего расцвета.
Там начинал высокую миссию реформатора сцены Михаил Щепкин. Там властвовал во всей зрелости своего неповторимого трагического таланта «могучий, грозный чародей» Павел Мочалов.
К Павлу Степановичу Мочалову юный Лермонтов относится восторженно. В своих полудетских письмах он радуется, что в ряде спектаклей московский трагик превзошел петербургского – прославленного Василия Каратыгина. Он инстинктивно чувствует близость своих ранних творческих устремлений высокому романтическому, исповедническому искусству Мочалова. Он восхищается трагедиями Шекспира (которые, превосходно владея английским языком, читает в подлиннике) – этого, по его словам, «гения необъемлемого, проникающего в сердце, в законы судьбы, оригинального, то есть неподражаемого». И особенно высоко он ставит «Гамлета». Гамлетом в исполнении Мочалова бредила Москва.
То была лучшая роль актера.
«Лик» Мочалова в роли Гамлета запечатлел младший современник Лермонтова Аполлон Григорьев:
Тот лик, измученный тоской,
С печатью тайны роковой
Тяжелой думы без ответа…
‹…………………………….›
И слышал я, как он язвил,
В тоске больной и безотрадной,
Своей иронией нещадной
Все, что когда-то он любил…
‹………………………………›
Ему мы верили, одним
С ним жили чувством, дети века.
И было нам за человека,
За человека страшно с ним!
Мочалов и Лермонтов были детьми одного века. Ранние, пусть еще не во всем совершенные, драмы Лермонтова несли в себе уже и горечь, и боязнь «за человека».
«Жребий чуждого изгнанника» сужден Фернандо – главному герою первой стихотворной трагедии Лермонтова «Испанцы». К Испании мысль Лермонтова обращается не случайно. Среди многочисленных рисунков, в которых проявляется его незаурядный талант художника, не раз мелькают образы благородных испанских грандов. Вскоре напишет он маслом портрет герцога Лерма, от которого, согласно семейной легенде, происходили его менее знатные шотландские предки, поселившиеся когда-то в России и получившие дворянство. Но благородные гранды совсем не благородны по своим поступкам в трагедии Лермонтова. Поистине благородным оказывается лишь чужеродец среди них, найденыш еврей Фернандо, которому в их неправедном царстве лжи, лицемерия и жестокости суждено погибнуть, заколов перед смертью любимую им испанку Эмилию, чтобы спасти ее от бесчестия. Страшно в инквизиторской Испании. Страшно и в окружающем Лермонтова мире российской действительности.
Погибает Фернандо. Кончает самоубийством в русском поместье Юрий Волин – герой написанной Лермонтовым вслед за «Испанцами» в духе немецких романтических драм пьесы «Menschen und Leidenschaften» – «Люди и страсти». Автобиографический мотив вражды между властной помещицей Громовой и ее зятем Николаем Михайловичем Волиным приобретает в этой драме резко выраженный оттенок.
Еще более автобиографична и в то же время общественно значима последняя написанная Лермонтовым перед отъездом из Москвы романтическая драма «Странный человек». В предисловии к ней Лермонтов сообщает: «Лица, изображенные мною, все взяты с природы; и я желал бы, чтоб они были узнаны, – тогда раскаяние, верно, посетит души тех людей…»
«Странный человек», как и «Люди и страсти», еще далек от драматургического совершенства. Юношески наивно стремление автора страданиями главного героя Владимира Арбенина поселить «раскаяние» в душе «изменившей» самому автору семнадцатилетней красавицы Н. Ф. Ивановой, которой он посвятил столько вдохновенных стихов и которая явилась прототипом легкомысленной Наталии Федоровны Загорскиной – героини «Странного человека». Излишне патетичен сюжет с обычным для мелодрамы сумасшествием и последующей смертью героя. И все же «Странный человек» интересен своей попыткой показать истоки страданий героя в пороках общества, в котором суждено было жить Лермонтову.
«Справедливо ли описано у меня общество? – спрашивает Лермонтов в предисловии к «Странному человеку». – Не знаю! По крайней мере, оно всегда останется для меня собранием людей – бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя малейшая искра небесного огня!»
«Странный человек» интересен еще и тем, что в нем явственно проступает автопортрет самого Лермонтова тех лет: «Он имел характер пылкий, душу беспокойную, и какая-то глубокая печаль от самого детства его терзала… Его сердце созрело прежде ума; он узнал дурную сторону света, когда еще не мог остеречься от его нападений, ни равнодушно переносить их. Его насмешки не дышали веселостию; в них видна была горькая досада против всего человечества! Правда – были минуты, когда он предавался всей доброте своей. Обида, малейшая, – приводила его в бешенство, особливо когда трогала самолюбие».
⁂
Проучившись два года в Московском Благородном пансионе, а затем два года в Московском университете на словесном отделении и поссорившись там с начальством, Лермонтов приехал поступать в Петербургский университет. Но туда его не приняли. «Мне не зачли, как многим другим, годы, которые я провел в Москве», – объяснял Лермонтов.
И пришлось ему в Петербурге, вопреки твердому «предназначению себя для литературного поприща», поступить в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
С самого начала душа его не приняла Петербурга, с «туманом и водой», с «торчащими» повсюду полицейскими, с столичными «бездушием» и законами, сидящими «на лбу людей».
Вскоре на берегу Финского залива сочинил он свой бессмертный «Парус», в котором лирическая тоска парадоксально сочеталась с неуемной жаждой свободы:
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Пока что бури житейского моря вынесли его к порогу учебного заведения, в котором официально было запрещено иметь всякие литературные произведения, кроме учебников по военному делу. В декабре 1832 года он облачился в юнкерский мундир. А затем был произведен в корнеты привилегированного лейб-гвардии гусарского полка.
За годы пребывания в здании юнкерского училища, стоящего на Исаакиевской площади (там позже был построен дворец для дочери Николая I Марии Николаевны), с их воинскими экзерцициями, конными манежами, маневрами, строгим казарменным бытом, Лермонтову мало что удалось написать. Но уже вызревал в уме давно задуманный им «Демон», появлялись наброски вольнолюбивого романа из времен Пугачева «Вадим» и даже была напечатана поэма «Хаджи Абрек».
После окончания в 1834 году училища он живет вместе с другом своим А. А. Столыпиным (Монго) в аристократическом Царском Селе, где расположен их полк. Но Лермонтов часто бывает в Петербурге, куда наезжает бабушка.
«Гусар мой по городу рыщет, – с восторгом рассказывает она своей приятельнице, – и я рада, что он любит по балам ездить: мальчик молоденький в хорошей компании и научится хорошему, а ежели только будет знаться с молодыми офицерами, то толку не много будет».
Одетый в расшитый золотом мундир корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов погружается в мир фантасмагорического светского веселья, где, по словам Герцена, царит Николай I – «недоверчивый, холодный, прямый, безжалостный, с душою, недоступною высоким порывам, и посредственный, как его приближенные. Возле него пониже находилось высшее общество, которое при первом ударе грозы, разразившейся над головой после 14 декабря, потеряло едва перед тем приобретенные понятия о чести и достоинстве…».
В годы приобщения Лермонтова к петербургскому свету так называемое высшее общество продолжает рьяно веселиться на роскошных приемах, костюмированных и не костюмированных балах в аристократических особняках, царских и великокняжеских дворцах. И в специально приспособленных для публичных маскарадов залах Большого театра, богато отделанного Благородного собрания на Мойке у Полицейского моста, в блистающем позолотой и хрусталем доме внучатого племянника «светлейшего» Потемкина В. В. Энгельгардта на углу Невского проспекта и Екатерининского канала.
Изображению этого общества и посвятил Лермонтов свою новую, написанную в 1835 году петербургскую драму «Маскарад».
⁂
«Молчаливым замиранием с платком во рту, – гибелью без вести» называет эпоху созревания нового последекабристского поколения все тот же Герцен. «Нам, – констатирует он, – дают обширное образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира и нам кричат: «Оставайтесь рабами, немыми, бездеятельными – или вы погибли». В награду нам оставляют право сдирать шкуру с крестьян и спускать на зеленом сукне или в кабаке собираемые нами с них подати кровью и слезами».
Со сцены в игорном доме, где господствует «зеленое сукно», и начинается действие в «Маскараде» – драме юношески дерзкой и в то же время зрело-горькой, лучшей из всех сценических творений Лермонтова.
Она поражает органичным сплавом разностильных, казалось бы, литературных образцов: байроновская скорбь уживается в ней с шиллеровской мятежностью; идущее от «Фауста» Гёте философское стремление познать границу добра и зла – с конкретными приметами места, действия и русской социальной среды. Говоря о «Маскараде», невольно вспоминаешь юношеские строки Лермонтова:
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
В отличие от первых своих драм при создании «Маскарада» Лермонтов идет не только по пути немецких романтиков и великих английских писателей, но и следует русской – грибоедовской традиции.
Назвав Грибоедова «Шекспиром комедии», Белинский утверждал, имея в виду «Горе от ума»: «Комедия, по моему мнению, есть такая же драма, как и то, что обыкновенно называется трагедиею; ее предмет есть представление жизни в противоречии с идеею жизни; ее элемент есть тот желчный гумор, это грозное негодование, которое не улыбается шутливо… которое преследует ничтожество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами. Комедия Грибоедова есть истинная divina comedia[1]!»
«Желчный гумор» сквозит в репликах действующих лиц, собравшихся возле покрытого зеленым сукном стола, где проигрыш может стоить жизни. Близки грибоедовской стилистике восклицания обычных посетителей игорного дома, куда после долгого отсутствия заходит бывший частый его посетитель Евгений Александрович Арбенин.
Послушай, милый друг, кто нынече не гнется,
Ни до чего тот не добьется.
Что стоят ваши эполеты?
Я с честью их достал, – и вам их не купить.
Он из полка был выгнан за дуэль
Или за то, что не был на дуэли.
Из-за угла кого-то там хватил,
Пять лет сидел он под началом
И крест на шею получил.
И дальше все в той же грибоедовской тональности будут возникать диалоги и здесь, в игорном доме, и на модном великосветском приеме, и среди родовитых родственников, пришедших к гробу жены Арбенина в последней сцене драмы. И как прямая перекличка с «Горе от ума» – фигура Шприха, своеобразного двойника грибоедовского Загорецкого.
Был бит не раз, с безбожником – безбожник,
С святошей – езуит, меж нами – злой картежник,
А с честными людьми – пречестный человек.
Короче, ты его полюбишь, я уверен, –
характеризует Шприха бывший приятель Арбенина Казарин.
«Портрет хорош, – оригинал-то скверен!» – отвечает на это Арбенин.
Подобными «оригиналами» полон игорный дом, где светские господа порою становятся шулерами, а шулера, набивая карманы, надевают личины светских господ. Где сам Арбенин когда-то научился лишь
Все презирать: закон людей, закон природы.
День думать, ночь играть, от мук не знать свободы,
И чтоб никто не понял ваших мук.
Не трепетать, когда близ вас искусством равный,
Удачи каждый миг постыдный ждать конец
И не краснеть, когда вам скажут явно:
«Подлец!»
Здесь научился также он «не завидовать», но «и не знать участья», и видеть «все насквозь», «все тонкости» обмана. Он научился мстить. И не прощать. И равнодушно видеть гибель «счастливых невежд в науке жизни… пламенных душою, которых прежде цель была одна любовь…». Вооружившись холодным скептицизмом «яда зла», Арбенин отошел, скучая, от покрытого зеленым сукном стола, почувствовав себя неуязвимым.
Такова данная в самом начале «Маскарада» экспозиция характера главного героя этой лермонтовской монодрамы, поскольку трагический смысл ее, завязка, основной конфликт и развязка будут определяться развитием одного образа, аналитическим исследованием его особенностей и истоков.
Среда, выковавшая этот сильный, гордый и недобрый характер, раскрывается и в следующей, также являющейся своеобразной экспозицией сцене маскарада в знаменитом доме Энгельгардта.
Следует сказать, что великосветские балы, куда приглашалось отборное общество, и доступные всем платные маскарады были как бы двумя сторонами санкционированного сверху веселья. Публичные маскарады нередко посещал Николай I. На них позволяли себе появляться высокопоставленные дамы, вплоть до императрицы и ее дочерей, разумеется тайно, тщательно костюмированные.
«Там женщины есть… чудо… И даже там бывают, говорят…» – пытается рассказать об этом молодой офицер князь Звездич, собирающийся вместе с Арбениным на маскарад в дом Энгельгардта. Арбенин, прошедший все искусы обманного мира, вовремя прерывает его:
Пусть говорят, а нам какое дело?
Под маской все чины равны,
У маски ни души, ни званья нет, – есть тело.
И если маскою черты утаены,
То маску с чувств снимают смело.
В маскарадной сцене царит атмосфера бесстыдного скидывания масок с чувств – потаенных, чаще всего нецеломудренных, нередко циничных.
«Вы знаете ли, кто она?» – спрашивает Арбенин Звездича, указывая на очередную маску, и тут же дает характеристику:
Быть может, гордая графиня иль княжна,
Диана в обществе… Венера в маскераде,
И также может быть, что эта же краса
К вам завтра вечером придет на полчаса.
В обоих случаях вы, право, не внакладе.
В этом мире беззастенчивых интриг, неприкрытой лжи, супружеских и несупружеских измен, оскорблений, грубых намеков, двусмысленных откровений, циничного разврата и начинается завязка трагического конфликта созданной Лермонтовым драмы.
Одиноко и скучно здесь Арбенину. Ему, кто прежде «странствовал, играл, был ветрен и трудился, постиг друзей, коварную любовь», пришла пора «с глубоким отвращеньем» взглянуть на «этот пестрый сброд – весь этот маскерад». Ему, познавшему теперь истинно высокое чувство к жене.
Лермонтовскую драму не раз в прошлом сравнивали с «Отелло» как «трагедию ревности». Но сходства здесь меньше, чем различий. От шекспировского Отелло, человека безупречно честного, естественного в своих порывах, Арбенина отличает царящее в душе постоянное противоборство добра и зла, тот яд противоречивых сомнений, который свойствен, скорее, Гамлету, а не Отелло, если уж говорить о влиянии Шекспира на Лермонтова. «Отелло не ревнив, он доверчив». Как всегда, лаконичная, меткая и точная формулировка Пушкина. Арбенин не просто ревнив, он трагически ревнив, ибо его любовь к Нине – та последняя нить в презираемом и ненавистном ему мире зла, которая воскресила его для «жизни и добра». И которую он так страшится утратить. Прожив ту жизнь, в которой он «узнал печать проклятья и холодно закрыл объятья для чувств и счастия земли», он не только не доверчив, он страстно, мучительно подозрителен. Вспыхнувшая в нем любовь сорвала с его души «черствую кору», дала призрачную надежду на ее воскресение. Но как шатка эта надежда для него, прошедшего круги земного ада собственных сомнений, неверности, лжи, коварства, обмана, оскорблений достоинства и чести.
Маскарадный мир чиновного Петербурга, в котором суждено было Арбенину впитать зло мнимого понятия о чести, добродетели, который превратил его в рассудочного игрока, искалечившего не одну невинную жизнь, теперь мстит ему самому.
В развитии интриги, которая двигает сюжет, имеют место обычные, казалось бы, для «драмы ревности» приемы: улика в неверности – в виде потерянного Ниной браслета, – параллельные любовные отношения других персонажей, вносящие путаницу и разжигающие ревность героя, негодяи, способствующие трагической развязке.
Но все эти персонажи и перипетии порождены той жизнью высшего общества, которая исковеркала богатую натуру Арбенина. И которая окружает его.
Ты! бесхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человек;
В тебе одном весь отразился век,
Век нынешний, блестящий, но ничтожный, –
с беспощадной откровенностью характеризует баронесса Штраль князя Звездича, не знающего чувства благодарности, способного обесчестить женщину во имя жалкого тщеславия светского волокиты.
Но и сама баронесса, предавшая Нину, оказывается такой же «безнравственной и безбожной», исковерканной светскими представлениями женщиной.
«Повсюду зло – везде обман!..» – восклицает Арбенин. И становится снова на неправедный путь отречения от добра.
«Тебя, как и других, к земле прижал наш век», – с ужасом признается он сам себе. И находит для ненавистного ему Звездича достойную их блестящего и ничтожного века месть: «Язык и золото… вот наш кинжал и яд!»
Обесчестив собственным бесчестным поступком мнимого соперника, он убивает затем единственную свою привязанность в жизни – Нину. И обрекает себя на то страшное одиночество, которое не имеет исхода и всех мук страшней.
Одиночество человека, терзающего себя за содеянное зло, которого он не мог не совершить и которому нет забвения, – эта тема проходит через творчество Лермонтова начиная с его ранних стихотворений.
Она получает свое философское решение в поэтическом образе «печального демона, духа изгнанья». Она окрашивает беспросветной печалью размышления поэта в «Думе» о судьбе своего поколения, охваченного «неверием осмеянных страстей»:
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны,
И перед властию – презренные рабы.
Она получит дальнейшее свое углубленно-психологическое воплощение в вершинном творении Лермонтова – романе «Герой нашего времени».
Она определяет и развязку «Маскарада». Арбенин приговорен к самой страшной каре – потере разума.
⁂
Впрочем, в той редакции «Маскарада», которую осенью 1835 года Лермонтов представил в драматическую цензуру, надеясь увидеть свою драму поставленной на сцене Александринского театра, был другой конец. Пьеса была тогда трехактной и кончалась смертью отравленной Нины. Увы! Цензор А. Ольдекоп оказался проницательным. Он сразу узрел крамолу в неблаговидном показе высшего света. Указав, что, возможно, «вся пьеса основывается на событии, происшедшем в нашей столице», он особо подчеркивал в своем заключении: «Не знаю, может ли пройти пьеса даже с изменениями… Я не могу понять, как мог автор бросить следующий вызов костюмированным балам в доме Энгельгардтов:
Я объявить вам, князь, должна,
Что эта клевета нимало не смешна.
Как женщине порядочной решиться
Отправиться туда, где всякий сброд,
Где всякий ветреник обидит, осмеет;
Рискнуть быть узнанной, – вам надобно стыдиться,
Отречься от подобных слов».
Цензор требовал (по мнению исследователей, то было желание самого шефа жандармов А. X. Бенкендорфа), чтобы пьеса кончалась «примирением между господином и госпожою Арбениными». И уж, во всяком случае, порок в ней должен был быть наказан. Страстно желая увидеть свою драму поставленной, Лермонтов дописал четвертый акт, с «наказанием порока», введя в ткань сюжета разоренного когда-то Арбениным Неизвестного, с его разоблачениями и последующим за ними сумасшествием главного героя.
Но и это не устроило цензуру. «В новом издании, – доносил Ольдекоп в 1836 году начальству, – мы находим те же неприличные нападки на костюмированные балы в доме Энгельгардтов… те же дерзости против знатных дам высшего общества… Автор захотел прибавить другой конец, не тот, который ему был назначен…»
И тогда в октябре 1836 года Лермонтов сделал еще одну попытку, представив в цензуру новый вариант пьесы, теперь называвшейся «Арбенин». Превращенная в семейную драму с действительной изменой героини и разрывом супругов, она в значительной мере утратила свою остроту. Но и в таком виде драма Лермонтова не была разрешена.
Забегая вперед, следует сказать, что запрет цензуры не был снят еще свыше двадцати лет. Лишь в либеральное время реформ, в 1862 году, «Маскарад» Лермонтова впервые в полном виде увидел свет на сцене московского Малого театра.
До этого однажды лишь отдельные сцены его были поставлены в Александринском театре. Но в каком искаженном виде предстали они тогда, в 1852 году! Грубо смонтированные, в урезанном виде, они превратились в пародийно звучащую мелодраму, где Арбенин, которого играл Василий Каратыгин, вонзая в себя кинжал, кричал: «Умри ж и ты, злодей!»
Между тем в пору создания «Маскарада» существовал актер, который по духу своему был близок Лермонтову. Все тот же «грозный чародей» Павел Мочалов. Он буквально задыхался в устаревшем репертуаре банальной мелодрамы и все мечтал сыграть роль в русской драме с подлинно трагедийным звучанием. Напечатанный в 1842 году «Маскарад» восхитил его. «Он говорит, что он воскреснет в этой драме», – писал имевший тесные связи с петербургскими литературными кругами В. П. Боткин А. А. Краевскому. И передавал просьбу Мочалова «указать путь, по которому надо идти для получения права» поставить «Маскарад» на своем бенефисе 1843 года.