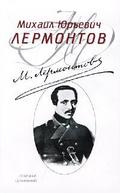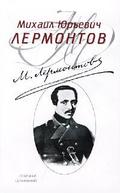Михаил Лермонтов
Штосс / Отец
© Беляев П. Ю., 2022
© Издательство «Союз писателей», оформление, 2022
© ИП Соседко М. В., издание, 2022
Михаил Юрьевич Лермонтов
Штосс

I
У графа В… был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.
В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты… одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую, На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли.
– Здравствуйте, мсье Лугин, – сказала Минская кому-то, – я устала… скажите что-нибудь! – и она опустилась в широкое пате возле камина; тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.
– Скучно, – сказала Минская и снова зевнула, – вы видите, я с вами не церемонюсь! – прибавила она.
– И у меня сплин! – отвечал Лугин.
– Вам опять хочется в Италию? – сказала она после некоторого молчания. – Не правда ли?
Лугин в свою очередь не слыхал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы:
– Вообразите, какое со мной несчастие: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! – вот уже две недели, как все люди мне кажутся желтыми, – и одни только люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.
Минская улыбнулась.
– Призовите доктора, – сказала она.
– Доктора не помогут – это сплин!
– Влюбитесь! (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «Мне бы хотелось его немножко помучить!»)
– В кого?
– Хоть в меня!
– Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно, – и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.
– А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?..
– Вот видите, – отвечал задумчиво Лугин, – я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти, но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастию; я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? – вышло нет; я дурен – и следственно, женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв, но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; все это грустно – а правда!..
– Какой вздор! – сказала Минская, но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.
Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии – и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.
Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине.
Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал.
– Куда вы? – спросила Минская.
– Прощайте.
– Еще рано.
Он опять сел.
– Знаете ли, – сказал он с какою-то важностию, – что я начинаю сходить с ума?
– Право?
– Кроме шуток. Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера – и как вы думаете – что? – адрес: вот и теперь слышу: «В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер двадцать семь». И так шибко, шибко – точно торопится… Несносно!..
Он побледнел. Но Минская этого не заметила.
– Вы, однако, не видите того, кто говорит? – спросила она рассеянно.
– Нет. Но голос звонкий, резкий, дишкант.
– Когда же это началось?
– Признаться ли? я не могу сказать наверное… не знаю… ведь это, право, презабавно! – сказал он, принужденно улыбаясь.
– У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит.
– Нет, нет. Научите, как мне избавиться?
– Самое лучшее средство, – сказала Минская, подумав с минуту, – идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что… вы в самом деле нездоровы!.. – прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.
– Вы правы, – отвечал угрюмо Лугин, – я непременно пойду.
Он встал, взял шляпу и вышел.
Она посмотрела ему вослед с удивлением.
II
Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как, например… у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой, ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом нимало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия или не имел ее вовсе. На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице, в глазах горело тайное беспокойство.
– Где Столярный переулок? – спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатою полостию и насвистывая камаринскую.
Извозчик посмотрел на него, хлыстнул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.
Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулок? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.
– Столярный? – сказал мальчик, – а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, первый переулок и будет Столярный.
Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидал небольшой грязный переулок, в котором с каждой стороны было не больше десяти высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «Где дом Штосса?»
– Штосса? Не знаю, барин, здесь этаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, а подальше…
– Да мне надо Штосса…
– Ну не знаю, – Штосса!! – сказал лавочник, почесав затылок, и потом прибавил: – Нет, не слыхать-с!
Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переулка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидал над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.
Он подбежал к этим воротам – и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.
Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане, с седой, давно не бритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.
– Эй! дворник, – закричал Лугин.
Дворник что-то проворчал сквозь зубы.
– Чей это дом?
– Продан! – отвечал грубо дворник.
– Да чей он был?
– Чей? Кифейкина, купца.
– Не может быть, верно, Штосса! – вскрикнул невольно Лугин.
– Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса! – отвечал дворник, не подымая головы.
У Лугина руки опустились.
Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.
Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом:
– Новый хозяин здесь живет?
– Нет.
– А где же?
– А черт его знает.
– Ты уж давно здесь дворником?
– Давно.
– А есть в этом доме жильцы?
– Есть.
– Скажи, пожалуйста, – сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, – кто живет в двадцать седьмом номере?
Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.
– В двадцать седьмом номере?.. да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.
– Разве его не нанимали?
– Как не нанимать, сударь, – нанимали.
– Как же ты говоришь, что в нем не живут!
– А бог их знает! так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.
– Ну, а кто его последний нанимал?
– Полковник, из анженеров, что ли!
– Отчего же он не жил?
– Да переехал было… а тут, говорят, его послали в Вятку – так номер пустой за ним и остался.
– А прежде полковника?
– Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, – да этот и не переезжал; слышно, умер.
– А прежде барона?
– Нанимал купец для какой-то своей… гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался…
«Странно!» – подумал Лугин.
– А можно посмотреть номер?
Дворник опять пристально взглянул на него.
– Как нельзя? можно! – отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.
Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.
Они, не знаю почему, понравились Лугину.
– Я беру эту квартиру, – сказал он. – Вели вымыть окна и вытереть мебель… посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить… – В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, – платье, волосы, рука, перстни – все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, – и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое отступление – и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.