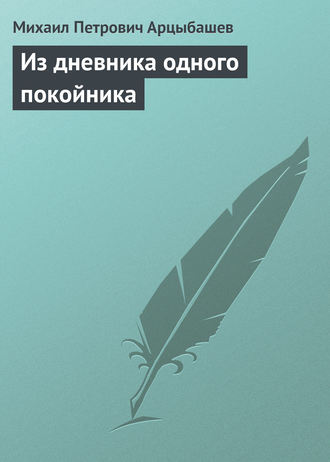
Михаил Петрович Арцыбашев
Из дневника одного покойника
Откровенно говоря, против такой аттестации я даже не протестую: конечно, раз я не боролся за жизнь и по одному такому совершенно ничтожному обстоятельству, как то, что она мне осточертела до тошноты, покончил с собой, то я – человек малодушный… раз я даже и после смерти не увидел в величественном акте разложения никакой мистической сущности и, пав, не преклонился, то ясно – пустой я человек… а если мне доставляет удовольствие за гробом признаваться в таких вещах, о которых порядочные люди даже и при жизни стыдливо умалчивают, то – развращенный я человек, достойный презрения человек – и вполне заслужил свое место в уголке, возле канавы, в которую хозяйки пригорода сливают помои.
Но, повторяю, кладбище заселялось, и с каждой неделей, если не днем, все громче доносились ко мне хриплые голоса отпевающих и характерный скрежет лопат о камни и корни деревьев. И, наконец, в один прекрасный вечер, не далее, как шагах в десяти от места моего вечного успокоения, я услышал позвякивание лопат и внушительную перебранку могильщиков, которым, по-видимому, порядочно-таки надоело хоронить своих ближних.
Смею вас уверить, что эти первые человеческие слова, которые я услышал после десятилетнего кладбищенского молчания, не произвели на меня особо радостного впечатления.
Но все-таки я целую ночь находился в чрезвычайном волнении. Не скажу, что у меня расходились нервы, потому что нервов у меня давно уже не было, но нечто подобное я ощущал… Каков будет сосед, удастся ли сохранить с ним отношения приятные или нельзя ли будет изобрести совместных легоньких развлечений?.. А вдруг – дама?.. Одним словом, до самого рассвета я прислушивался к каждому звуку со стороны и буквально сгорал от нетерпения… Это очень простительно: человек уж так устроен, что при всем своем полном неуважении к себе подобным, все-таки жить без них не может… Не перевариваем мы одиночества!.. Должно быть, это именно потому, что и созданы мы, чтобы, так сказать, разделить некое Великое Одиночество.
Припомню, единственно для литературности, что множество знаменитых писателей сделало себе карьеру именно, с одной стороны, воспевая красоту гордого одиночества и презрения к пошлой толпе, а с другой стороны, – делая из этого самого одиночества величайшую трагедию. Это, впрочем, доказывает только их остроумие и дар к комбинациям самого неожиданного свойства – больше ничего.
Ночь тянулась неимоверно долго. С тех пор, как я умер, я окончательно убедился, что человеку отпущено слишком много времени. От скуки я пытался заняться чем-нибудь – погрохотал пулей, прочистил запылившиеся глазные впадины, смел в уголок гроба лишний прах, несколько раз просвистал марсельезу.
Наконец настал день, и я услышал отдаленное приветственное звяканье погребальных колоколов.
– Несут, несут? – в величайшей ажитации воскликнул я и даже подпрыгнул от радости, причём с горечью убедился, что ничего нет прочного не только на земле, но и под землею: мне становилось, уже трудно сохранить в порядке свои кости… Это навело меня на грустные размышления.
– Чего доброго, перепутаешь когда-нибудь и вместо тазовой кости приставишь свой собственный череп. Пока все на своем месте, еще ничего, а рассыплется, и черт его разберет, что к чему. А ведь я столько лет все же хранил в этом черепе бессмертный дух и так гордился им. Да и в случае воскресения мертвых выйдет неприлично. Еще примут за намек: многие ведь и при жизни не совсем ясно отдают себе отчет, где у них голова и где, собственно, этот бессмертный дух помещается.
Звон продолжался. Послышалось монотонное похоронное пение и тяжелые шаги несущих.
Не буду, впрочем, описывать похорон: во-первых, это вовсе и не так весело, во-вторых, в достаточной мере глупо, а в-третьих, вы сами своевременно это удовольствие испытаете, за это я вам ручаюсь, уж будьте благонадежны!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прошло несколько дней, и я с горечью понял, что обманулся в своих расчетах: из соседней могилы не доносилось ни единого звука… так-таки ровнешенько ничего!.. Можно было подумать, что вместо порядочного бессмертного покойника там зарыли обыкновенное березовое полено.
А покаяться… хотя при жизни я и слыл атеистом и с гордостью это утверждал, маленькая, этак совсем крохотная надежда на бессмертие у меня была… все-таки была!.. А тут уже окончательно стало ясно, что покойники, покончив свои расчеты с жизнью, лежат себе смирнехонько и гниют потихонечку, не доставляя удовольствия ни себе, ни другим.
Вид у них, может быть, и очень загадочный, но положение самое, глупое.
Мне даже стало досадно: так приятно было, глядя в строгое, исполненной, тайны, лицо какого-нибудь умершего Ивана Ивановича, произносить с видом глубочайшего, проникновения:







