
Михаил Салтыков-Щедрин
Дневник провинциала в Петербурге
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
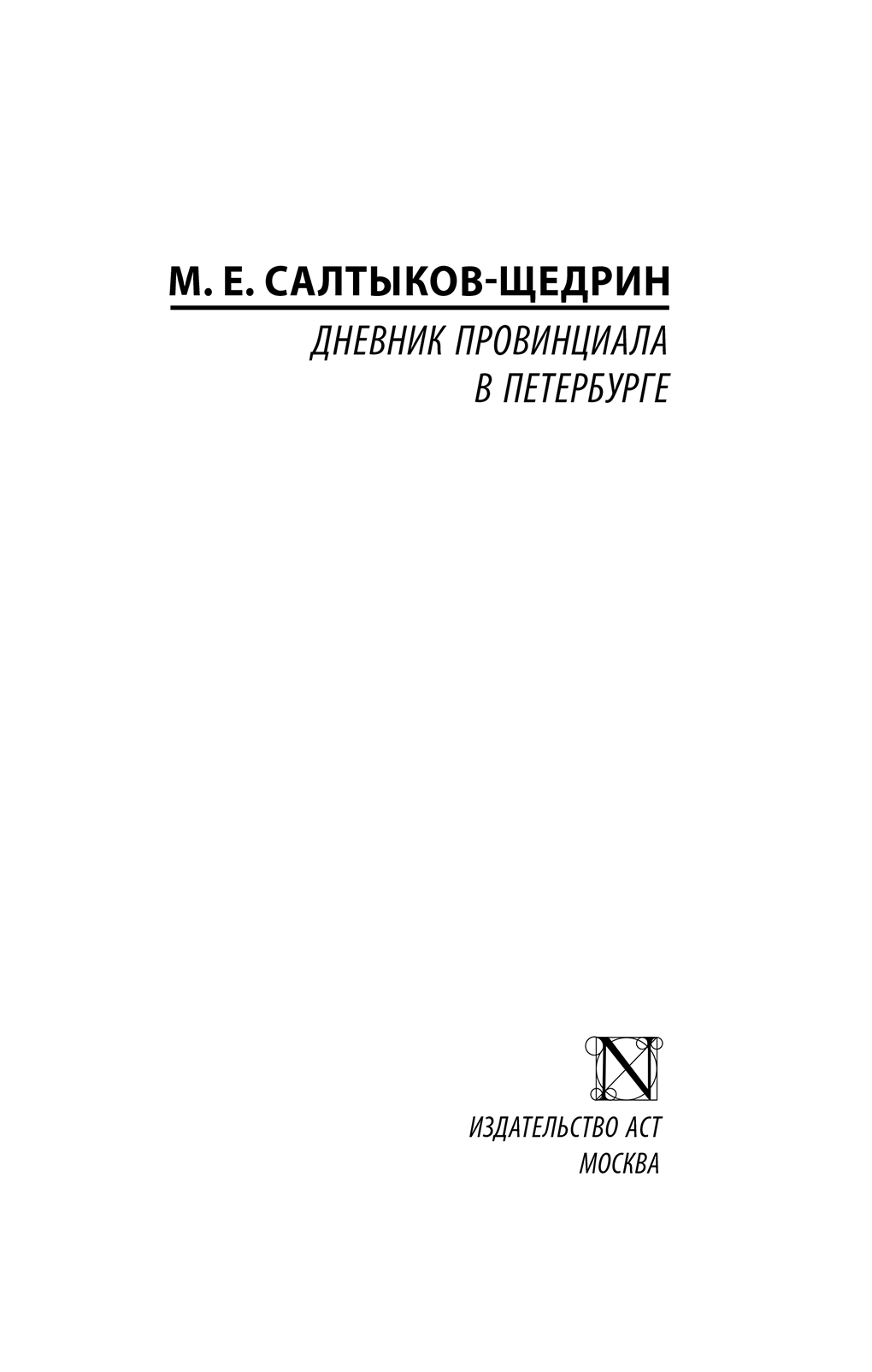
I
Я в Петербурге.
Зачем я в Петербурге? По какому случаю? – этих вопросов, по врожденной провинциалам неосмотрительности, я ни разу не задал себе, покидая наш постылый губернский город. Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно. Сидим-сидим – и вдруг тронемся. Губернатор сидит – и вдруг надумается: толкнусь, мол, нет ли чего подходящего! Прокурор сидит – и тоже надумается: толкнусь-ка, нет ли чего подходящего! Партикулярный человек сидит – и вдруг, словно озаренный, начинает укладываться… «Вы в Петербург едете?» – «В Петербург!» – этим все сказано. Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет. Что разрешить, на что пролить свет? – этого ни один провинциал никогда не пробует себе уяснить, а просто-напросто с бессознательною уверенностью твердит себе: вот ужо съезжу в Петербург, и тогда… Что тогда?
Как бы то ни было, вопрос: зачем я еду в Петербург? – возник для меня совершенно неожиданно, возник спустя несколько минут после того, как я уселся в вагоне Николаевской железной дороги.
В этом вагоне сидела губерния, сидело все то, от чего я бежал, от лицезрения чего стремился отдохнуть. Тут были: и Петр Иваныч, и Тертий Семеныч, и сам представитель «высшего в империи сословия» Александр Прокофьич (он же Прокоп Ляпунов) с супругой, на лице которой читается только одна мысль: «Alexandre! У тебя опять галстух набок съехал!» Это была ужаснейшая для меня минута. Все они были налицо с своими жирными затылками, с своими клинообразными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. Все притворялись, что у них есть нечто в кармане, и ни один даже не пытался притвориться, что у него есть нечто в голове. По-видимому, это последнее обстоятельство для них самих составляло дело решенное, потому что смотреть на мир такими осовелыми глазами, какими смотрели они, могут только люди или совершенно эманципированные от давления мысли, или люди совсем наглые. А так как моих спутников нельзя же назвать вполне наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежат к числу вполне свободных. На меня эти красные околыши произвели какое-то болезненное впечатление. Мне показалось, что я опять в нашем рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовском клубе, окруженный сеятелями, деятелями и всех сортов шлющимися и не помнящими родства людьми…
Разумеется, обрадовались. Но в этих приветственных возгласах мне слышалось что-то обидное. Как будто, приветствуя меня, они в один голос говорили: а вот и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встреча до такой степени уязвила меня, что я никогда так отчетливо, как в эту минуту, не сознавал, что ведь я и сам такой же шлющийся и не знающий, куда приткнуть голову, человек, как и они? Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. Быть может, на первых порах оно так и было, но впоследствии, когда интерес новизны исчез, эти встречи должны были возбуждать не смех, а взаимное озлобление. Скажите, можно ли без злобы ежеминутно встречаться с человеком, которого видишь насквозь, со всем его нутром! Помилуйте! Да от этого человека за тридевять земель бежать надобно, а не то что улыбаться ему!
Легко сказать – бежать! Вы бежите – а он за вами! Он, этот земский авгур, населяет теперь все вагоны, все гостиницы! Он ораторствует в клубах и ресторанах, он проникает в педагогические, экономические, сельскохозяйственные и иные собрания и даже защищает там какие-то рефераты. Он желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова, он смотрит Патти, Паску, Лукку, Шнейдер – словом, он везде. Это какой-то неугомонный дух, от вездесущия которого не упастись нигде…
По обыкновению, как только разместились в вагонах, так тотчас же начался обмен мыслей.
– В Петербург? – спрашивает Прокоп Петра Иваныча.
– В Петербург.
– Зачем, смею спросить?
– Да так… насчет концессии одной… А вы?
– Я, признаться, тоже… от земства… А вы, Тертий Семеныч?
– Да я… как бы вам сказать… ведь и я тоже насчет концессии!
Наконец вопрос обращается и ко мне:
– В Петербург-с?
Тут-то вот именно и представился мне вопрос: зачем я, в самом деле, еду в Петербург и каким образом сделалось, что я, убегая из губернии и находясь, несомненно, за пределами ее, в вагоне, все-таки очутился в самом сердце оной? И мне сделалось так совестно и конфузно, что я совершенно неосновательно ответил Прокопу:
– Да там… тоже маленькая концессия…
Тогда начались проекты самых фантастических концессий. Из Пензы в Наровчат, захватив на дороге Мокшан и Инсар; из Рязани в Михайлов, а там в Каширу, в Алексин, в Белен, в Медынь и т. д. Слышались восклицания: «вот бы! вот кабы!», «ну, уж тогда бы» и проч. Но меня так всецело поглотила мысль, зачем я-то, собственно, собрался в Петербург – я, который не имел в виду ни получить концессию, ни защитить педагогический или сельскохозяйственный реферат, – что даже не заметил, как мы проехали Тверь, Бологое, Любань. С этою же мыслью я очутился утром на дебаркадере Николаевской железной дороги.
Но здесь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hotel… Уклониться от совместного жительства не было возможности. Еще в Колпине начались возгласы: «Да остановимтесь, господа, все вместе!», «Вместе, господа, веселее!», «Стыдно землякам в разных местах останавливаться!» и т. д. Нужно было иметь твердость Муция Сцеволы, чтобы устоять против таких зазываний. Разумеется, я не устоял.
Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!
Вот буквально те впечатления, которые в течение первых двух недель я испытывал в Петербурге изо дня в день.
Каждое утро, покуда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются в дверь моего нумера. Раньше всех стучит Прокоп.
– Ну что, как концессия? Заполучили? – обращается он ко мне своим обычным лающим голосом.
– Нет еще… да и не знаю…
– Тут, батюшка, зевать некогда! Как раз из-под носа стибрят!
Через полчаса опять стук: стучит Тертий Семеныч.
– Ну что, заполучили?
– Не знаю, как бы сказать…
– Что ж вы мямлите-то, что мямлите! Ведь этак как раз из-под носа утащат!
Проходит четверть часа. «Стук-стук!» Идет мимо Петр Иваныч.
– Что, как концессия?
Мне делается уже весело. Я сам начинаю верить, что приехал за концессией и что есть какая-то линия между Сапожком и Касимовым, которую мне совершенно необходимо заполучить.
– Да что, батюшка, – говорю я, – эта концессия… шут ее знает!
– Что вы зеваете-то, что зеваете! Прокоп вот все передние уж объездил, а вы! Хотите, я вам скажу одну вещь?
– Ах, сделайте милость!
– Там полковник один есть… Просто даже и ведомства-то совсем не того, отставной… Так вот покуда мы стоим этак в приемной, проходит мимо нас этот полковник прямо в кабинет… Потом, через четверть часа, опять этот полковник из кабинета проходит и только глазом мигнет!
– Ну и что ж?
– Ну, тут его и лови!
Затем губерния часа на два, на три исчезает. Но не успел я одеться (бьет два часа), как опять стук в дверь! Влетает Прокоп.
– Разве так делают дела? – накидывается он на меня. – Вы вот потягиваетесь тут, а я уж во всех трех министерствах был!
– Александр Прокофьич! Неужто?
– Да-с, был-с. Только уж и ходьба!
– А что?
– Да вот посчитайте-ка сами ступеньки от первого этажа до четвертого, тогда увидите!
– А результат?
– Да как сказать? – покуда еще никакого! Ведь здесь, батюшка, не губерния! Чтобы слово-то ему сказать, чтобы глазком-то его увидеть, надо с месяц места побегать! Здесь ведь все дела делаются так!
– Однако это неприятно!
– А вам все, чтоб было приятно! Вам бы вот чтоб Фаддей и носки вам на ноги надел, и сапоги бы натянул, а из этого чтоб концессия вышла! Нет, сударь, приятности-то эти тогда пойдут, когда вот линийку заполучим, а теперь не до приятностей! Здесь, батюшка, и все так живут!
Прокоп подходит к окну, видит бегущего по улице мазурика, и воображение рисует перед ним целую картину.
– Смотрите! – восклицает он. – Вон он высуня язык бегает! Вы думаете, он дело делает! Пустяки, сударь, пустяки он делает! День-то деньской он пробегает, вечером прибежит домой: что я сделал? – иной даже заплачет! Ничего, ну просто-напросто ничего! А там пройдет и еще день, и еще, и еще… И все-то так! И всякий-то день ничего! А через месяц, смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Как сформируется? почему сформируется? – ничего не известно! Там бросил словечко, там глазком глянул, туда забежал, там с швейцаром покалякал… – На вид оно пустяки, ан смотришь – в результате оно самое и есть!
Снова стук. Петр Иваныч влетает прямо в соболях. Щеки у него горят, кадык застыл от мороза, усы влажны.
– Ну, кажется, идет дело на лад! – говорит он весело.
– Решена? – спрашивает Прокоп, и в глазах его появляется какой-то блудящий огонь, которого я прежде не примечал.
– Решена!
– Ну а моя еще нет!
– Теперь только бы в самую середку-то угодить!
– Да, это тоже штука. Одно средство: к тузу какому-нибудь примазаться! Уж черт его душу дери… ешь половину!
Еще стук. Влетает Тертий Семеныч и падает в изнеможении в кресло.
– Устал, – говорит он, – был везде! И у Бубновина был, и у Мерзавского был, и у сына Сирахова был!
– Ну и что же!
Все в один голос:
– Полезнейшее предприятие!
– Смотри, как бы тебя с «полезнейшим-то предприятием» не продернули! Ведь это тоже народ теплый!
– Меня-то! У меня линия верная! От Корочи через Тим, Щигры да так-таки прямо в Ливны. А там у меня, кстати, и имение есть.
– Да ты что возить-то по этой линии будешь?
– Уж это наше дело!
– Нет, ты скажи!
– А позвольте узнать, Александр Прокофьич, что вы-то по вашей линии возить будете?
– Это от Изюма-то, через Купянку, Валуйки да в Острогожск! Да тут, батюшка, хлеба одного столько, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скот, кожи! Да ты пойми: ведь в Изюме-то окружной суд! Члены суда будут ездить, судебные следователи, судебные пристава! Твое же острогожское имение описывать поедут!
Между тем Петр Иваныч беспокойно поглядывает на часы и вдруг вскакивает:
– Однако пора бежать!
И все трое, обращаясь ко мне, разом восклицают:
– Вы разве не пойдете устрицы есть?
– Не знаю… Я как-то еще не думал об этом.
– Ну, каким же образом после того вы концессию получить хотите! Где же вы с настоящими дельцами встретитесь, как не у Елисеева или Эрбера? Ведь там все! Всех там увидите!
– Да ведь я… право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну что я, в самом деле, возить по ней буду!
– А вам-то что? Это что еще за тандрессы такие! Вон Петр Иваныч снеток белозерский хочет возить… а сооружения-то, батюшка, затевает какие! Через Чегодощу мост в две версты – раз; через Тихвинку мост в три версты (тут грузы захватит) – два; через Волхов мост – три! По горам, по долам, по болотам, по лесам! В болотах морошку захватит, в лесу – рябчика! Зато в Питере настоящий снеток будет! Не псковский какой-нибудь, я настоящий белозерский! Вкус-то в нем какой – ха-ха!
– Смейтесь, смейтесь! А вот как заполучу дорожку, тогда будет… хи-хи!
– Мы, батюшка, нынче всю эту статистику дотла разузнали: где что родится, где какое производство идет! Где мамура-ягода, где княженика-ягода! Где сырть-рыба, где сельдь, где снеток! Где мыло варят, где кожи дубят! Разносчик кричит: «Сельди переславские!» – а мы примечаем!
Делать нечего – отправляемся вчетвером на биржу к Елисееву.
Устричная зала полна. Губерния преобладает. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки, затылки. На столах валяются фуражки с красными околышами и кокардами. Там и сям мелькают какие-то оливковые личности: не то греки, не то евреи, не то армяне – словом, какие-то иконописные люди, которым удалось сбежать с кипарисной деки и отгуляться на воле у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скот, откормленный бардою. Личности эти составляют центры, около которых образуются группы кадыков. Но самый главный центр представляет какой-то необыкновенно жирный и, по-видимому, не очень умный человек, который сидит на диване у средней стены и на груди у которого отдыхает тяжелая золотая цепь, обремененная драгоценными железнодорожными жетонами. Он уж поел и, сложив на груди руки и зажмурив глаза, предается пищеварению. По временам пройдет мимо него кадык, скажет: «Анемподисту Тимофеичу!» – тогда он отделит от туловища одну из рук и вложит ее в протянутую руку кадыка. Хотя этот человек сидит за своим столом одиноко, но что не кто другой, а именно он составляет настоящий центр компании, – в этом нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни на минуту не теряют его из вида. Они и сидят за своими столами как-то не прямо, а вполоборота к нему, и говорят друг с другом, словно не друг с другом, а обращаясь к третьему лицу, которое нельзя беспокоить прямо, но без мнения которого обойтись немыслимо.
Проходя мимо него, Прокоп толкает меня в бок и шепчет каким-то испуганным голосом:
– Бубновин!
В зале сыро, наслякощено, накурено – словно туман стоит. Но кадыки не гогочут, по своему обычаю, а как-то сдержанно беседуют, словно заискивают.
– Аристиду Фемистоклычу! – восклицает Прокоп, расцветая при виде одного из византийских изображений, которого наружность напоминает паука, только что проглотившего муху. – Как поживаете, каково прижимаете?
– Ницево, зивем!
– Девочки как?
– И девоцки!.. У нас девоцек завсегда бывает оцень достатоцно!
– Ну и слава богу!
Мы садимся за особый стол; приносят громадное блюдо, усеянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозревают в будущем и усматривают там потребность в новом таком же блюде.
– Вели еще десятка четыре вскрыть! – командует он. – Да надо бы и насчет вина распорядиться… Аристид Фемистоклыч, вы какое вино при устрицах потребляете?
– Сабли… а впроцем, я могу всякое!
– Ну и нам подавай шабли, а потом и до «всякого» доберемся!
Начинается истребление устриц под гвалт общего говора.
– Я вам докладываю: простой армейский штабс-капитан был! – ораторствует какой-то кадык. – В нашем городе в квартальные просился – не дали.
– А теперь третью дорогу строит! – отзывается другой кадык. – Вот оно что значит ум-то!
– Да, если целовек с умом… это тоцно!.. – замечает Аристид Фемистоклыч.
Он пропустил уж полсотни устриц и развалился на диване, попыхивая какой-то неслыханной красоты сигарой.
– Товарищами были, в одно время в полку служили, – повествует в другом углу третий кадык. – Вчерась встречаемся на Невском. Ты что, говорит. Так и так, говорю, дорожку бы заполучить! Приходи, говорит!
Я вглядываюсь в говорящего и вижу, что он лжет. Быть может, он и от природы не может не лгать, но в эту минуту к его хвастовству, видимо, примешивается расчет, что оно подействует на Бубновина. Последний, однако ж, поддается туго: он окончательно зажмурил глаза, даже слегка похрапывает.
– А какая доброта-то! – продолжает хвастаться кадык. – Так-таки просто и говорит: Приезжай, говорит, я тебя с женой познакомлю, а потом и об дорожке потолкуем! Я, говорит, знаю, что твое дело верное!
Бубновин продолжает похрапывать.
– Шнейдершу бы вот попросить, чтобы словечко замолвила! – вдруг предлагает кто-то.
Бубновин открывает один глаз, как будто хочет сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но предложению не дается дальнейшего развития, потому что оно, как и все другие восклицания вроде: «вот бы, «тогда бы» – явилось точно так же случайно, как те мухи, которые неизвестно откуда берутся, прилетают и потом опять неизвестно куда исчезают.
Съедаются первые четыре десятка устриц, потом съедаются еще четыре десятка устриц, в промежутках съедаются два фунта свежей икры, фунт сыру, фунт семги. Выпивается по бутылке шабли на брата, потом по бутылке шампанского; в промежутках пробуются разные сорта водок. Дым синими волнами ходит по комнате, так что, несмотря на зажженный газ, почти ничего не видно. И чем больше выпивается, тем гуще делается шум. Приходят новые деятели; слышатся вопросы: «Решена?», «Аудиенции-то добился ли по крайней мере?» – и ответы: «А черт их разберет!», «Семь дней хожу, и дальше передней ни-ни!» В пять часов мы выходим наконец на воздух.
– Где же дельцы-то? – спрашиваю я у Прокопа.
– А Бубновин!
– Да ведь вы с ним даже не говорили!
– Какой вы, батюшка, однако ж, чудной! Разве этакого человека можно сразу! Его надобно еще приучить к себе, чтобы он, значит, к физиономии-то сначала присмотрелся! Раз скажешь ему: «Анемподисту Тимофеичу!» – в другой: «Анемподисту Тимофеичу!» – ну, он и прислушивается помаленьку. Успел ты ему понравиться – дело в шляпе! Не успел – домой поезжай, и проедаться тут нечего! Вот этот барин, что про Шнейдершу-то давеча молвил, – вы видели, как он на него посмотрел! Да барин-то плох! Другой бы на его месте так бы этой Шнейдершей Бубновина раззудил, что завтра и по рукам бы хлопнули!
– За чем же дело? Воспользуйтесь!
– Я, батюшка, и то уж подумываю! Кончено дело! Завтра же чем свет – к Бубновину! Я ему этот прожектец во всех статьях разверну!
Я возвращаюсь в свой нумер усталый, ошеломленный, полупьяный, нераздетый бросаюсь в постель и засыпаю тяжелым сном. Во сне мне видится железная дорога от Петербурга до самого устья Печоры. Локомотив, пыхтя и свистя, несется в необозримую даль; болотные трясины содрогаются, леса оглашаются бесконечным эхом, испуганные звери и птицы скрываются куда-то далеко, в непроглядный мрак. На поезде сидит жандарм и какой-то партикулярный молодой человек. И мчатся эти люди день и ночь, худо спят, наскоро закусывают, бегут, спешат, как будто и невесть какие приятства ожидают их на устье Печоры. А с устья Печоры, в свою очередь, тоже мчится поезд, и несется на нем господин Латкин с свежею печорскою семгою и кедровой шишкой в руках как доказательство крайней необходимости дороги в этот кишащий естественными богатствами край. И вдруг в Усть-Сысольске ужасное столкновение… Раздается треск, гром; я в ужасе мечусь на постели и, наконец, вскакиваю.
В комнате темно; в дверь моего нумера действительно кто-то сильнейшим образом стучит.
Отпираю; влетает Прокоп.
– Спите, батюшка, спите! – говорит он мне укоризненно. – А я, покуда вы тут спите, у Дюссо с таким человечком знакомство свел!
– С каким еще человечком? – спрашиваю я, насилу продирая глаза.
– Да уж с таким человечком, что, ежели через неделю мое дело не будет слажено и покончено, назовите меня в глаза подлецом!
Не успеваю я ответить, как влетают разом Тертий Семеныч и Петр Иваныч.
– Ну, батюшка, слава богу, кажется, мое дело в шляпе! – говорит Тертий Семеныч.
– И меня, я полагаю, через недельку поздравить будет можно! – перебивает его Петр Иваныч.
– Ну а теперь пора и отдохнуть! – возглашает Прокоп. – Да что, впрочем: не выпить ли на ночь прощеную!
Но я решительно отказываюсь, и гости после долгих упрашиваний расходятся наконец по нумерам.
Я остаюсь один (бьет уж два часа) и вновь ложусь спать.
Таким образом продолжается пятнадцать дней. Кроме своего нумера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообедал как следует. Кроме устриц, икры, семги – ничего. Горячего ни-ни! Наконец я чувствую, что ежели это времяпрепровождение продолжится, то я сделаюсь пьяницей. Каждый день по малой мере три бутылки вина, не считая водки! И это, так сказать, натощак. Перестаю, наконец, понимать, кто я и где я. В одно прекрасное утро просыпаюсь и ничего, положительно ничего не понимаю. Что? Как? Зачем? Наконец, когда уж мне вылили на голову целое ведро холодной воды (я, помню, все кричал: «лей! лей!»), только тогда я понял, что я – это я. Подбежал к зеркалу, смотрю – глаза налитые, совсем круглые. Значит, дошел до точки.
Нет, надо бежать. Но как же уехать из Петербурга, не видав ничего, кроме нумера гостиницы и устричной залы Елисеева? Ведь есть, вероятно, что-нибудь и поинтереснее. Есть умственное движение, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконец, найдутся старые знакомые, товарищи, которых хотелось бы повидать…
Конечно. Я предпринимаю героическое решение. В одно прекрасное утро, покуда губерния шнырит по разным концам города, я уплачиваю мой счет в Grand Hôtel и тайком перебираюсь в скромные chambres garnies[1], на Гороховой.
Прежде всего я отправляюсь в Воронинские бани, где парюсь до тех пор, покамест не сознаю себя вполне трезвым. Затем приступаю вновь к практическому разрешению вопроса: зачем я приехал в Петербург?
Сознаюсь откровенно: из всех названных выше соблазнов (умственное движение, публицистика, литература, искусство, жизнь) меня всего более привлекает последний, то есть жизнь. Мы, провинциалы – да, впрочем, одни ли мы? – имеем о жизни представление несколько двойственное. Хазовый конец этого представления составляют интересы умственные и общественные, действительной же его сущности отвечает все то, что льстит интересам личным и непосредственным, то есть вкусу и чувственности. На этот конец у нас и слово такое выдумано: «жуировать». А жуировать совсем не значит ходить в публичную библиотеку, посещать лекции профессора Сеченова, защищать в педагогических и иных собраниях рефераты и проч., а просто, что в переводе на французский язык означает: «Buvons, chantons, dansons et aimons!»[2] Поэтому, если мы встречаем человека, который, говоря о жизни, драпируется в мантию научных, умственных и общественных интересов и уверяет, что никогда не бывает так счастлив и не живет такою полною жизнью, как исследуя вопрос о пришествии варягов или о месте погребения князя Пожарского, то можно сказать наверное, что этот человек или преднамеренно, или бессознательно скрывает свои настоящие чувства. Говорит он о пользе классического образования, а на уме у него: «Buvons, chantons, dansons et aimons!» Говорит о податной реформе, а на уме: «Buvons, chantons, dansons et aimons!» Все эти вопросы, системы, нововведения и проч. представляют лишь неизбежную, но сухую и горькую приправу жизни. Без них нельзя обойтись, потому что они дают одним – прекраснейшие должности с прекраснейшим содержанием; другим, не нуждающимся в содержаниях, прекраснейшие общественные положения. Но конечный результат всех этих содержаний и положений все-таки резюмируется так: «Buvons, chantons, dansons et aimons!» Никакое полезное предприятие немыслимо, если оно время от времени не освежается обедом с шампанским и устрицами. Тупа грамматика, косноязычна риторика, если их не оплодотворяет струя редерера. Даже археолог, защищая реферат о «Ярославле-сребре», и тот думает: «Вот ужо выпьем из той самой урны, в которой хранился прах Овидия!» Вот где настоящая русская подоплека, а совсем не там, где бесплодно ищут ее глаголемые славянофилы. Москва поняла это в совершенстве, оттого-то в ней и едят, так сказать, походя.
Следуя общему примеру, и я отправился на поиски жизни и с этою целию посетил товарищей моих по школе.
Прихожу к одному – статский советник!
– Статский советник! – восклицаю я. – Поздравляю, поздравляю!
А сам между тем чувствую, что в голосе у меня что-то оборвалось, а внутри как будто закипает. Я добрый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не выйди я титулярным советником в отставку, то мог бы… мог бы… Ах, черт побери да и совсем!
– Да, душа моя, – с невозмутимою важностью отвечает мой бывший товарищ, – не могу пожаловаться: начальство ценит-таки труды мои!
«Труды твои! Шиш твои труды – вот что!» – со злобою помышляю я, но вслух говорю следующее:
– Ну а дальше… есть виды?
– Насчет видов – это покамест еще секрет. Но, конечно, с божьею помощью…
Сказав это, он устремил такой пронзительный взгляд в даль, что я сразу понял, что сей человек ни перед какими видами несостоятельным себя не окажет.
– Ну а в настоящем как?
– А в настоящем… жуируем! Гандон, Ловато, Шнейдер… да ты Шнейдер-то видел?
– Нет еще… я так недавно в Петербурге…
– Ты не видал Шнейдер! Чудак! Чего же ты ждешь! Желал бы я знать, зачем ты приехал! Boulotte… да ведь это перл! Comme elle se gratte les hanches et les jambes… sapristi![3] И он не видел!
В эту минуту в комнату входит другой товарищ, еще только коллежский советник.
– Смельский, ужасайся: он не видал Шнейдер!
– Ты не видал Шнейдер!
– Он не слыхал «Dites-lui»![4]
– Eh Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes… cette fille! Barbare… va![5]
Я слушаю и краснею. В самом деле, что делал я в течение целых двух недель? Я беседовал с Прокопом, я наслаждался лицезрением иконописного Аристида Фемистоклыча – и чего не видел! Не видел Шнейдер!
– Ради бога… нельзя ли… – лепечу я в смущении.
– Ah, mon cher, c’est grave! C’est trés grave, ce que tu nous demande-la[6]. Однако вот что. У нас ложа на все пятнадцать представлений, и хотя нас четверо, но для тебя, pour te desinfecter de ta chére ville natale…[7] мы потеснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, обедать, но за обедом, чур, много вина не пить! Помните, что сегодня идет «Barbe bleue»[8], а чтоб эту пьесу просмаковать, нужно, чтоб голова была светла да и светла!
И точно, за обедом мы пьем сравнительно мало, так что, когда я, руководясь бывшими примерами, налил себе перед закуской большую (железнодорожную) рюмку водки, то на меня оглянулись с некоторым беспокойством. Затем: по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека – и только.
На свежую голову Шнейдер действует изумительно. Она производит то, что должна была бы произвести вторая бутылка шампанского. Влетая на сцену, через какое-нибудь мгновение она уж поднимает ногу… так поднимает, ну так поднимает!
– Adorable![9] – шепчет мой друг статский советник.
– И заметь, что у нас она в сто крат скромнее играет, нежели в Париже! – комментирует другой мой друг коллежский советник.
И вдруг она начинает петь. Но это не пение, а какой-то опьяняющий, звенящий хохот. Поет и в то же время чешет себя во всех местах, как это, впрочем, и следует делать наивной поселянке, которую она изображает.
– Mais comme elle se gratte! Сomme elle se gratte!.. Рarlezmoi de ça![10] – захлебывается статский советник.
– Je vous demande un peu, si ce n’est pas là une grande actrice?[11] – вторит коллежский советник и с какою-то ненавистью озирается по сторонам, как будто вызывает дерзновенного, который осмелился бы выразить противоположное мнение.
Но зала составлена слишком хорошо: никто и не думает усомниться в гениальности m-lle Шнейдер. Во время пения все благоговейно слушают; после пения все неистово хлопают. Мы, с своей стороны, хлопаем и вызываем до тех пор, покуда зала окончательно пустеет.
После спектакля ужин (уже без воздержания), и за ужином разговор.
– Mais comme elle se gratte!
– En voilà une fille!
– Et remarquez, comme elle a fait ceci…[12]
Статский советник пробует пройтись церемониальным маршем, как это делает Шнейдер, то есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо.
Я сам взволнован до глубины души и желаю выразить свои чувства.
– Признаюсь, господа, – говорю я, – это… это… заметили ли вы, например, какой у нее отлет?
Я изгибаюсь головой и грудью вперед, а остальною частью корпуса силюсь изобразить отлет.
– Именно отлет! C’est le vrai mot! Otliott magnifique![13]
– Ай да деревня! Сидит, сидит в захолустье, да и выдумает!
– Messieurs, не говорите так легко об нашем захолустье! У нас там одна помпадурша есть, так у нее отлет! Je ne vous dis que ça![14]
Я собираю пальцы в кучку и целую кончики.
– Ну все-таки против Шнейдер… – сомневается статский советник.
– Да разве я об Шнейдерше!.. Schneider! mais elle est unique![15] Шнейдер… это… это… Но я вам скажу, и помпадурша! Elle ne se gratte pas les hanches, c’est vrai! mais si elle se les grattait![16] Я не ручаюсь, что и вы… Человек! Четыре бутылки шампанского!
Потом следуют еще четыре бутылки, потом еще четыре бутылки… желудок отказывается вмещать, в груди чувствуется стеснение. Я возвращаюсь домой в пять часов ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва успеваю лечь в постель, как тотчас же засыпаю. Но я не без гордости сознаю, что сего числа я был истинно пьян не с пяти часов пополудни, а только с пяти часов пополуночи.
На другой день к другому товарищу – этот уже не просто статский, а действительный статский советник.
– Уж действительный статский!
– Да, душа моя, действительный. Благодарение богу, начальство видит мои труды и ценит их.
– Да ведь таким образом ты, пожалуй…
– И очень немудрено. Теперь, душа моя, люди нужны, а мои правила настолько известны… Enfin qui vivra – verra[17].
Сказавши это, он поднял ногу, как будто инстинктивно куда-то ее заносил. Потом, как бы сообразив, что серьезных разговоров со мной, провинциалом, вести не приходится, спросил меня:
– Надеюсь, что ты видел Шнейдер?
– Вчера, с старыми товарищами были.
– Это в «Barbe bleue»? Délicieuse![18] не правда ли?
– Comme elle se gratte les hanches et les jambes![19]
– N’est-ce pas! Quelle fille! Quelle diable de fille! Et en même temps, actrice! Mais une actrice… ce qui s’appelle – consommée![20]
– A ты заметил, как она церемониальным маршем к венцу-то прошла!
Я пробую напомнить Шнейдершу в лицах, но при первой же попытке вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.
– Ну вот! Ну вот! – смеется мой друг. – Это хорошо, что ты так твердо запомнил, но зачем подражать неподражаемому! En imitant l’inimitable, on finit par se casser le cou[21].
– Mais comme elle se gratte! Dieu des dieux! Comme elle se gratte![22]
– Ah! Mais c’est encore un trait de génie… ça![23] Заметь: кого она представляет? Она представляет простую, наивную поселянку! Une villageoise, une paysanne, Une fille des champs! Ergo…[24]
– Mais c’est simple comme bonjour![25]
– Вот сегодня, например, ты увидишь ее в «Le sabre de mon pére»[26] – здесь она не только не чешется, но даже поразит тебя своим величием! А почему? потому что этого требует роль!
– Увы! у меня нет на сегодня билета!
– Вздор! Надо, чтобы ты видел эту пьесу. Вы – люди земства, mon cher, и наша прямая обязанность – это стараться, чтоб вы все видели, все знали. Вот что: у нас есть ложа, и хотя мы там вчетвером, но для тебя потеснимся. Я хочу, непременно хочу, чтобы ты видел, как она поет «Dites-lui»![27] Я с намерением говорю: «чтоб ты видел», потому что это мало слышать, это именно видеть надо! А теперь идем обедать, mais soyons sobres, mon cher, parce que c’est tres serieux, ce que tu vas voir ce soir![28]
Мы обедаем впятером. Выпиваем по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека – и только.
Я не стану описывать впечатления этого чудного вечера. Она изнемогала, таяла, извивалась и так потрясала отлетом, что товарищи мои, несмотря на то что все четверо были действительные статские советники, изнемогали, таяли, извивались и потрясали точно так же, как и она.







