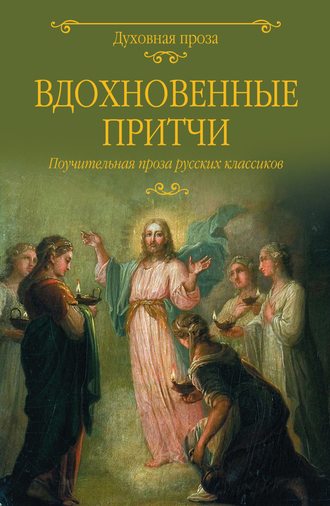
Михаил Салтыков-Щедрин
Вдохновенные притчи. Поучительная проза русских классиков (сборник)
Глава седьмая
Заключенный в темнице Фалалей ничего не ответил Тивуртию, но только горько заплакал, а на другой день, дождавшись прихода Тении, обнял ее и опять со слезами стал благодарить ее за ее верность.
– Что же ты думаешь? – спросила его Тения.
– Хотя бы мне суждено было провести бесконечные годы еще в худшей темнице, чем эта, которую выстроил Ирод, и хотя бы мне надлежало умереть в ней без надежды когда-нибудь видеть море, и солнце, и милые лица наших детей, то и тогда я предпочел бы вечное это томление в неволе одной минуте твоего позора. Ты можешь поступать как хочешь, но что до меня, то пусть я здесь доживу мою жизнь и умру в этой яме, но ты для моего спасения не отдавай своей чистоты – в ней твоя прелесть и в ней моя радость и сила.
Тения обрадовалась, услыша от мужа такие слова, потому что они отвечали ее собственным чувствам.
– Благодарю тебя, – отвечала она, – ты теперь укрепил мою душу, и за то я открою тебе, что я таила в себе, когда отдавала себя в твою волю. Знай, что если бы ты отвечал мне согласием, то ты оскорбил бы меня больше, чем все, которые, видя наше несчастие, желают склонить меня торговать своею красотой.
Душа моя не снесла бы этого бесчестья.
– Что же бы ты сделала? – спросил Фалалей.
– Если бы ты пожелал, чтобы я отдала себя на ложе этого вельможи, то я бы безропотно исполнила это твое желание, и, выйдя из его опочивальни, я отдала бы за тебя выкуп, но не пришла бы к тебе, а бросилась в море.
– О, я так и думал! – перебил Фалалей.
– Но за то я благодарю тебя, что ты сохранил мое сердце и я могу жить с своими детьми Вириной и Виттом.
Фалалей и Тения оба забыли свое горе и стали так рады, как будто к ним снизошло бесконечное счастье. А так как невольники в аскалонской темнице помещались на соломе очень тесно и ничем не были отделены один от другого, то хотя Фалалей и Тения старались говорить между собою как можно тише, но разговор их, однако, был услышан соседями, и в числе их злодеем Анастасом. Некоторые из заключенных над этим смеялись, а один из них передал слова супругов доимщику Тивуртию, который дал за это вестовщику монету, а сам пришел в большую досаду, потому что он видел в искательстве Милия драгоценный случай взыскать долг с Фалалея, а при таком обороте это взыскание становилось безнадежным. Разгневанный доимщик положил себе на уме наказать Тению как можно чувствительнее за ее упрямство и с этих пор стал употреблять разные меры к отягчению положения Фалалея, чтобы тем вынудить Тению сдаться на предложение ипарха.
Злобный Тивуртий начал с того, что выждал, когда Тения шла из темницы в виноградный шатер; он сейчас же тихо подошел к ней и начал уговаривать ее не отвергать исканий богатого вельможи.
– Что тебе, – говорил он ей, покрывая лукавые глаза свои толстыми веками. – Ты ведь еще в старой вере и можешь не считать себе это за грех.
Тения только покачала головой и ничего ему не отвечала.
Но Тивуртий не устыдился и не отставал. Он шел за Тенией и рассказывал ей, как Милий знатен и многовластен, и потом, понижая голос и шевеля своими толстыми веками, нашептывал, что ипарх давно бы уехал и для того только медлит произнести суд и казнить Анастаса, чтобы иметь предлог оставаться в Аскалоне, а цель этого одна – достичь одной краткой минуты обладания Тенией, за что он ее так щедро одарит, что она сейчас же может выкупить мужа, а ипарх Милий тогда казнит поскорей Анастаса и тотчас отъедет в Дамаск.
– Так рассуди же сама, как бесполезно упрямство! Все это дело краткой минуты, и ты с этим человеком никогда более и не встретишься. Что же за великая важность… подумай! твоя маленькая тайна нигде не разгласится, и верь мне, что и сама ты о ней скоро забудешь, да и время ли будет тебе помнить о том в счастливых объятиях любимого мужа? О, как счастлив Фалалей, что ты его любишь: будь же умна – пожалей Фалалея и принеси для него эту пустую минутную жертву. А я берусь все так устроить, что ты войдешь к Милию и выйдешь назад ни для кого не заметно: я поставляю теперь для него провизию и часто ввожу к нему в дом рыбака. Я уложу в корзину дыню и цветного зуйка, а ты оденешься молодым рыбаком, обнажишь свои прекрасные ноги и понесешь за жабры в обнаженных руках прекрасного розового мормира.
Но Тения оттолкнула Тивуртия и не захотела поступить так, как он внушал ей, за это доимщик Тивуртий обещал ей погубить все ее семейство. Тения же оставалась непреклонною и несла свое горе, деля время между детьми в шалаше, мужем в темнице и игрою на арфе в шатрах виноградных.
Отказ Фалалея от получения свободы из темницы ценой унижения Тении так сильно ее утешил, что она не только не боялась Тивуртия, но ощущала в душе усиленную бодрость, и это выражалось в ее игре на арфе. И хотя содержатель ночных шатров так же, как Тивуртий, не одобрял ее целомудрия, но его ночные посетители были сострадательнее к горю бедной арфистки, и монеты из рук их падали к ногам Тении, а она собирала их в корзинку, где у нее в зеленых листьях лежал сухой черный сыр и плоды для детей.
Но не спала ночью не одна Тения – не спал и Тивуртий-доимщик и придумал себе против Тении новые средства.
Глава восьмая
Тивуртий не мог выпустить из рук своих случая, который казался ему драгоценным, и препятствия, которые ставила ему Тения, только разжигали в нем желание достичь своей цели. Доставив Милию редкие фрукты и розового мормира, Тивуртий вызвался ему схватить Тению насильно и принести ее к нему, обмотав в египетский шелковый парус, но Милий был тонкий ценитель удовольствий и не хотел обладать ею насильно: он желал, чтобы скромная Тения сама подошла к его двери и сама положила ему на плечо свои руки и шепнула ему: «Я пришла возвестить тебе, Милий, что миг благосклонен и до зари я желаниям твоим буду покорна».
Тивуртий сдвинул толстые веки и отвечал:
– Для меня это излишняя тонкость, но тем не меньше я буду стараться: подожди еще с осуждением Анастаса, а я надеюсь сделать кое-что такое, после чего Тения должна будет скоро прийти и сказать тебе: «миг благосклонен».
Чтобы преодолеть непреклонность Тении и скорее довести ее до того, чтобы она согласилась исполнить желание Милия, доимщик Тивуртий рассказал о Тении всем заимодавцам Фалалея. Эти страшно рассердились, что Тения пренебрегает случаем с ними расплатиться за мужа, и пошли все к заключенному корабельщику и стали укорять его, говоря:
– Ты и твоя жена – самые бесчестные люди. Ты разорил нас и нарочно хотел приготовить нам впереди такое самое положение, какое сам нынче, по справедливости, терпишь, а жена твоя своим упорством оскорбляет вельможу, и ты, вместо того чтобы ее образумить, еще и сам отказываешь в своем согласии на такое незначительное дело, какое переносили не чета тебе именитые люди. Ведь ты не Абрагам[39] и не Ицгак, о которых из века в век вспоминают книги, а те сами и жены их покорялись обстоятельствам. Отвернись на короткий час к стене и вздохни, как бедняк, и мимо тебя совершится все к общему счастию: все мы будем счастливы, и ты будешь на воле и снова увидишь друзей в своем доме и сядешь с женою своей и с детьми на берегу моря в тени сикоморы, и на столе твоем будут ароматные дыни, черноголовый зуй и розовый мормир. Дай же скорее свое согласье, чтобы твоя безумная Тения покорилась вельможе.
– Нет, – отвечал Фалалей, – я не разорял вас с умыслом и не буду счастлив, достигнув свободы через позор чистой Тении. Можете томить меня, сколько хотите.
Купцы были разгневаны этим ответом и закричали:
– Теперь мы еще яснее видим, что ты человек подлый и помышляешь только о себе об одном, а до других тебе нет дела! Ну так не жди же и сам для себя от других ни малейшей пощады! Пусть с тобой как можно суровее поступает доимщик Тивуртий. Пусть на тебя нападут все недуги, живущие здесь со дней Ирода.
Фалалей отвечал:
– Пусть все это будет, но непорочность же Тении мне всего драгоценнее.
После этого раздосадованный Тивуртий подкупил темничного стража Раввулу, чтобы он не допускал Тению до свидания с мужем, а сам написал некоторому своему знакомцу Сергию, откупщику общедоступных женщин в Александрии, чтобы тот скорее привез в Аскалон несколько красавиц, умеющих играть на арфах, петь нескромные песни и танцевать сладострастные танцы с «исканьем осы, залетевшей в одежду».
Темничник Раввула первый исполнил то, чего желал от него Тивуртий, и, когда Тения приходила, чтобы видеть мужа, он отбирал у нее пищу, ею приносимую, и передавал ее Фалалею, съедая сам, что было лучшее, а Тению отгонял от дверей. Когда же она садилась неподалеку от входа в темницу и плакала, то Раввула порицал ее и говорил ей:
– Ты сама всему виновата: для чего ты больше всего гордишься своею чистотой? Это ведь значит, что ты себя одну только и любишь.
– Это неправда твоя, – отвечала Тения.
– Как же неправда? Ты имеешь возможность разлить ручьем счастье для многих, но для тебя ничего не стоит их жажда. Хороша ты, дочь жреца Анубиса. Да покроешься ты тиной и плесенью, как источник, заглохший в своем водоеме, а я сейчас войду и отягчу цепь на руках и ногах Фалалея и стану стегать его по голому телу воловьею жилой.
Положение Тении стало ужасно, а Раввула продолжал не допускать ее в темницу и в самом деле надел вдвое более тяжкие оковы на Фалалея и стегал его утром и вечером жилой; но и после этого и Фалалей, и Тения все-таки еще оставались непреклонны. Столько силы для перенесения бедствий они почерпали во взаимной любви друг к другу!..
Между тем подоспевал к Аскалону на пестрой триреме[40] женский откупщик, александриец Сергий, которого вызвал Тивуртий, и привез в Аскалон тридцать красивых и смелых женщин, удивительно умевших «искать осу» и показывать другие, никогда еще здесь невиданные соблазны. Их новизна и их нестесненность должны были затмить Тению и сделать ее бесполезною в шатрах виноградных, а с этим вместе для нее прекратится и всякий добыток. Да и Милий – кто знает? – может увлечься «исканьем осы», и Тении самой станет жалко, что она упустила.
Глава девятая
Когда Сергий-александриец и его доступные девы высадились на берег у Аскалона, Тивуртий сказал темничнику Раввуле, чтобы он снова открыл Тении доступ к мужу в темницу, а сам в тот же день ранее роздал всем содержащимся в темнице невольникам хлебцы с чернушкой и другими пряными зернами и сказал:
– Это вам посылает великодушный Милий, ипарх из Дамаска. Он бы еще больше хотел вашу облегчить участь и за многих из вас дал бы выкуп, но он болен, томится и не может прийти сюда, чтобы вас видеть.
Колодники, приняв свежие хлебцы с чернушкой и другими пряными зернами, спросили:
– Чем болен Милий?
Тивуртий им отвечал:
– Болезнь ему причиняет строптивость приходящей сюда жены Фалалея, которая не в меру высоко о себе понимает и не хочет исцелить вельможную душу.
Узники закричали:
– Пусть вовеки живет доблестный Милий, и пусть придет всякое зло на строптивую Тению, жену разорителя многих, гордеца Фалалея.
И вдруг так все возненавидели Тению, что целый день вопияли вокруг Фалалея, а к темничным невольникам пристали и те, которые пришли навещать их, и всеобщее неудовольствие на Тению разнеслось по всему Аскалону. Особенно же проклинали Тению и Фалалея обедневшие через потопление его кораблей. На другой день все эти купцы и производители колесниц и ковров пришли в темницу к Фалалею большою толпой и стали говорить ему:
– Внемли же нам, Фалалей! Не будь безрассуден, согласись на то, чего алчет уязвленный страстью Милий.
От этой несносной докуки Фалалей томился хуже, чем от прежней неволи в то время, когда темничник Раввула не допускал к нему Тению. Теперь хотя Тения имела свободный доступ к мужу, но каждый приход ее в темницу вызывал из всех углов смрадной ямы такие вопли и укоры, что Фалалей и Тения терзались ими и сами решили, что им лучше здесь не видеться.
Заметив такой оборот, доимщик Тивуртий подошел еще с одной стороны: он приступил к Пуплии, бабке, матери Фалалея, и сказал ей:
– Вот ты старая и опытная женщина, ты, конечно, не позабыла еще, как жили у нас в Аскалоне во время твоей молодости.
– Разумеется, я это помню, – отвечала Пуплия.
– Жены тогда почитали бесчестием только обман, но, когда не было обмана, они жертвовали собой Анубису, хотя и знали, что, вместо бога, их примет в свои объятия смертный. Отец Тении, жрец Полифрон, не раз, я думаю, совершал такие таинства.
– Да, и я помню эти проделки Полифрона над нами. Мы узнавали во тьме, что не бог нас целует, а весьма страстный смертный, но стыдились о том говорить и молчали, а Полифрон продолжал это и успешно совершил над многими, что ему выгодно было.
– Ну вот видишь! И все-таки вы, несмотря на это, остались хорошими и честными женщинами?
– Что же делать. Мы примирялись с тем, что было для нас неизбежностью, и дело кой-как обходилось.
– Вот только это и надо! Я рад, что слышу от тебя такие разумные речи! Я знал, что, имея опыт в жизни, ты непременно имеешь и здравый рассудок. Подумай же, на что это похоже: сын твой томится в смрадной темнице, где он сгниет, а меж тем от жены Фалалея зависит, чтобы он получил свободу и чтобы вам воротилось все ваше именье.
– Может ли быть? От этих слов твоих у меня замирает мое старое сердце и слезы клубком подкатываются у меня к горлу. Расскажи же мне: что для этого надо сделать?
Тивуртий рассказал об исканиях Милия и об упорстве Тении: старая Пуплия всплеснула руками и начала горестно плакать и ворчать:
– Для чего… о, для чего это уже не совершилось втайне?
Тогда Тивуртий ей продолжал:
– Я был уверен, что ты это скажешь! Всякая умная женщина, на месте Тении давно бы так и совершила, а не поставила бы свою гордость в таком случае выше, чем счастье семьи. Умная и добрая женщина, конечно, предпочла бы лучше сама немножко поплакать, но за то отереть слезы других, кого любит. Не правда ли?
– Правда, – ответила Пуплия.
– Так помогай же мне сделать умное дело. Ты ведь мать Фалалея; ты бабка внучков своих Вирины и Витта, маленьких, бедных детей… Подумай, что ждет их? Фалалей истомится и умрет – его источит закожный червь в темнице, дети возрастут без учения, и ты умрешь без приюта, а стройное тело твоей гордой Тении согнется, и лицо ее поблекнет, и никто на нее не захочет смотреть… Тогда она сама пожалеет о том, что теперь отвергает, и проклянет свою гордость. Быть может, даже сама когда-нибудь станет за полог шатра и будет трогать за локти проходящих незнакомцев и смотреть на них подкрашенными глазами, загибая свои руки за шею, но это будет напрасно, и она не продаст никому за серебреник то, за что нынче готов осыпать ее златницами милосердный вельможа. О, будь милосердна к своим и к чужим, умная Пуплия, заставь скорее Тению ловить быстролетящий час, пока молодая кровь делает Милия безумцем. Теперь он рабствует прихоти своего сердца и готов на все, лишь бы ему не отъехать в Дамаск, не изведав краткой ласки от Тении; но этот жар может потухнуть и другого такого случая уже не будет, а если он пропадет, то и тебе, и всем нам после того навсегда будет ненавистна проклятая гордость твоей невестки.
Пуплия молчала, глядя вдаль померкнувшими глазами, из которых на ее сгоревшие от зноя щеки лились обильные слезы, а Тивуртий взял ее ласково за руки и закончил:
– Слезы твои, старуха, самого меня трогают, но и утешают: я вижу, что ты не ставишь счастье других ни во что, как делает Тения, и, наверное, направишь мысли Тении к тому, чтобы не считать свою чистоту бóльшим благом, чем счастье многих.
Тут Пуплия-баба вздохнула и отвечала:
– Слова твои, Тивуртий, страшно остры и едки: тяжело мне слышать, но ты отгадал: я согласна с тобою и буду уговаривать Тению, чтобы она не считала свою непреклонность за добродетель, потому что страдания наши слишком несносны.
Доимщик Тивуртий еще похвалил Пуплию и отошел, довольный своим первым успехом, и отправился в виноградные сады, где теперь раскинуты были небольшие шелковые шатры и в них размещались стройные разноцветные девушки, привезенные Сергием из Александрии. Старцы Аскалона собирались смотреть этих красавиц, рассуждали об их прелестях и пили вино, в котором плавали головки гвоздики; а Пуплия, как только дождалась возвращения Тении, положила ее усталую голову на свои колени и начала распускать мелкие плетения ее волос, склеенных вишневым клеем, и начала умолять ее сжалиться над страданием семейства.
– Что же ты хочешь? – спросила ее Тения.
Пуплия припала к уху невестки устами и прошептала:
– Иди к вельможе.
Глава десятая
Услышав такие слова от матери своего мужа, Тения ужаснулась и отвечала ей:
– От тебя ли, о Пуплия, могла я это услышать? Ты ведь мать Фалалея и должна бы поддержать мою твердость и верность супругу, а ты сама кладешь нож в мои руки и посылаешь меня убить в себе мой женский стыд и добродетель супруги. После этого я не должна тебя слушать.
Пуплия же ей отвечала:
– Ах, твердость и верность прекрасны, но горе слишком несносно. Если бы ты жила в прежнем довольствии, я никогда бы тебе таких слов не сказала, но когда всех нас ждет гибель, а ты можешь спасти нас, то я говорю: спаси нас, о Тения!.. О Тения, Тения! Спаси нас своею красотой!
И старая Пуплия упала перед ней на колени и покрыла своими седыми волосами ее ноги.
– Но ведь я люблю своего мужа и моя верность для него дороже всякого счастия, какое могу я купить этою ценой.
– Разве я тебе говорю, чтобы ты его не любила?… Но ради этих детей, которых ждет доля презренных и нищих, если они тебе дороги, тебе должно быть не трудно принести себя в жертву.
– Не трудно… О боги! Это ли должна я услышать?
– «Не трудно» – я говорю потому, что и я, и другие, которых я знала, тоже любили и также имели стыдливость, но подавляли все это в себе, когда надобно было, в честь Диониса и богини Изиды.
Пуплия еще понизила голос и продолжала шепотом:
– У жрецов в храме Изиды был чудесный напиток… Он вовсе безвреден… от него только после… день или два немножко болит голова. Очень немножко… Я видела, как его делали из маленьких голубых грибов… этот напиток, отнимающий память… И в нем еще есть одно чудное свойство… Испивши его, ощущаешь объятья и ласки того, к кому сердце согрето любовью… Я знаю, где находить этот маленький губастый грибок, и его нашла уже и утомила его в горшочке… Он уже выпустил сок свой, туманящий память… Ты будешь в тумане сладостно грезить до самого утра, а утром чуть свет я сама приду за тобою к дверям Милия, ты передашь мне золото и я побегу выкупить из неволи Фалалея, а ты пойдешь к морю, погрузишься вся в его волны и, освеженная, придешь домой, встретишься с мужем, и любовные мечты прошлой ночи станут для вас действительностью.
– Что говоришь ты? Что ты говоришь? – воскликнула Тения. – Неужели все это, по-твоему, можно?
– Без сомнения, можно, – отвечала, кивая головою, Пуплия, и еще раз помянула все, что приводил ей на память культ богини Изиды, и заключила вновь утешеньем, что сок из грибка, отводящего память, спасет ее от всего, что может помешать несмущенной искренности ее чувств к освобожденному мужу.
На это Тения уже ничего не нашлась ответить: она только собрала горстями наперед все свои волосы и, закрыв ими стыдом горящее лицо, застонала, произнося среди слез:
– О, я несчастная! До чего меня хотят довести все людские советы! Я уже не в силах понять, как мне должно поступать, но мой стыд и любовь говорят, что я не должна согласиться на то, чему ты меня учишь.
– Грибок, отбивающий память, отведет в сторону стыд.
– Да, дай мне, дай скорее этого сока, отводящего память, чтобы я могла позабыть то, что я от вас слышу. Во мне мешается смысл: я погибаю оттого, что начинаю не узнавать, где лежит настоящий путь моих обязанностей.
– Если любишь себя больше всех, тешь свой обычай, а если любишь Фалалея и детей – пожертвуй им своею гордыней и отведай грибка, отводящего память.
– Я люблю Фалалея, и потому-то я и хочу сохранить себя непорочной; но ты его тоже любишь и требуешь от меня, чтобы я для него согласилась войти к постороннему мужчине и остаться с ним под влиянием напитка, отводящего память. Как же это – и одно, и другое, – внушает любовь! Которая ж любовь истиннее и больше?… Я дохожу до безумия! Просветите мой ум, старые или новые боги!
– Всякий скажет тебе, – отвечала Пуплия, – что та любовь больше, которая сама о себе не думает. Мать любит больше жены!
– Больше!.. О нет! Никогда! Никогда! – воскликнула, стягивая себе горло волосами, Тения, и с этим она встала, взяла свою арфу и пошла к виноградным шатрам, где еще надеялась получить что-нибудь за свое пение от корабельщиков. Но ее ждал здесь новый удар: девы Египта делали излишним здесь полное грусти пение Тении.
А в то самое время как Тения ушла из-под своего шалаша, к Пуплии пришел Тивуртий и стал ее расспрашивать: удалось ли ей сбить Тению? Пуплия ему рассказала все вплоть до последних слов: «Никогда, никогда», но Тивуртий этим нимало не смутился и отвечал сквозь улыбку:
– Ах, почтенная Пуплия, разве ты позабыла, что все влюбленные люди глупы, а ты не ослабевай и все стой на своем. Так капля долбит камень, и в древности некий мудрец подтвердил это примером. Он имел спор с человеком, который был глуп и упрям, и сказал: «никогда». Никогда – это глупое слово, и мудрец отвечал: «Никогда не должно говорить „никогда“». Продолжай свое дело, и ты восторжествуешь.
– А я не надеюсь, – ответила Пуплия. – Тения слишком чиста, как камень белильный.
– Камень белильный! Что за беда – почернеет и камень белильный, если тихо, но долго по нем ударять и всегда в одно место. Она тебя уже слушает, это прекрасно: лишь бы только белое стало немножечко темнеть, а потом оно будет и синим, и желтым, и черным. «Никогда не надо говорить „никогда“». А надо вот что, – добавил он, склонясь к уху старухи, – надо спешить, чтобы Милию не наскучило ждать и чтобы он с досады не открыл суд над Анастасом и не отбыл в Дамаск, прежде чем Тения скажет ему: «час благосклонен».
Пуплия дала Тивуртию обещание быть неотступною в своих требованиях у Тении и поклялась ему жизнью своею и жизнью внучат Вирины и Витта, и Тивуртий, добившись этого, пошел пировать в шатры Эпимаха, где в вечерней прохладе должны были показать себя в соблазнительном виде привезенные Сергием девы Египта. Пояс Тивуртия на всякий случай был полон блестящими златницами, и тут же был маленький мешочек с головками ароматной гвоздики, производящей волнение крови.







