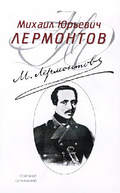Михаил Лермонтов
Полное собрание стихотворений
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Обращено, по всей вероятности, к кн. Николаю Николаевичу Трубецкому, женившемуся в 1833 году на Е. А. Лопухиной. Лермонтов был близок к семейству Лопухиных, в доме которых в Москве мог часто встречаться с Трубецким (ум. в 1879 году).
Г<ну> Павлову
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 15.
Впервые опубликовано в Соч. под ред. Висковатова (т. 1, 1889, стр. 58).
Стихи 6—10 в автографе зачеркнуты.
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Эпиграмма обращена к писателю Николаю Филипповичу Павлову (1805–1864). В конце 20—начале 30-х годов он выступал со своими стихами и переводами в «Моск. телеграфе», «Моск. вестнике», «Телескопе», в альманахах, которые были известны Лермонтову. Например, в «Мнемозине» и «Драматическом альбоме» печатались отрывки из павловского перевода в стихах французской переделки трагедии Шиллера «Мария Стюарт». В той же переделке трагедия шла и на московской сцене. Известно, с каким пренебрежением отзывался Лермонтов об этом роде литературы. Так, например, в письме к М. А. Шан-Гирей (1831) поэт, сожалея об «исковерканном» Шекспире, резко порицает шедшие в московском театре переделки Дюсиса, отвечавшие «приторному вкусу французов, не умеющих обнять высокое». В этом свете выглядят вполне последовательными саркастические интонации Лермонтова в эпиграмме на Павлова, написанной в том же году, что и письмо к М. А. Шан-Гирей.
Алябьевой
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 15.
Впервые опубликовано в Соч. под ред. Ефремова (т. 2, 1880, стр. 70).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Стихотворение посвящено Александре Васильевне Алябьевой (1812–1891), красота которой была неоднократно воспета современниками.
…Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой, —
писал Пушкин, обращаясь к кн. Н. Б. Юсупову в стихотворении «К вельможе». Восхищался «классической красотой» Алябьевой и П. А. Вяземский («Пушкин и его современники», т. 7, вып. 25–27, 1917, стр. 23–24). В 1832 году Алябьева вышла замуж за А. Н. Киреева.
Нарышкиной
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 15 об. Есть копия – ИРЛИ, оп. 4, № 26, отд. I (тетрадь В. X. Хохрякова), л. 3, с заголовком «А М-llе <L.> Е. Narichkine». Инициал «Е» в автографе зачеркнут.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1859, т. 125, № 7, отд. I, стр. 54–55).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Выдвигалось предположение, что стихотворение обращено к Елизавете Ивановне Нарышкиной (урожд. Метем), жене статского советника И. В. Нарышкина (Соч. изд. «Academia», т. I, стр. 498). Однако стихотворение не может относиться к Е. И. Нарышкиной, родившейся в 1787 году и в 1831 году имевшей взрослую дочь Екатерину (род. в 1816 году). Возможно, что именно к Екатерине Ивановне Нарышкиной и обращен мадригал. Этому предположению соответствуют и поправки в заголовке стихотворения, сделанные Хохряковым, очевидно, знавшим адресат стихотворения. Хохряков уточнил, что имеется в виду «M-lle Нарышкина», и снова восстановил инициал «Е».
Толстой
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 15 об.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1859, т. 125, № 7, отд. I, стр. 55).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Какая Толстая имеется в виду, не установлено.
Бартеневой
Печатается по беловому автографу ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 1589 (альбом П. А. Бартеневой), л. 61; автограф – на отдельном листке, вклеенном в альбом между лл. 56 и 57. На оборотной стороне листа надпись неизвестной рукой: «A M-lle Bartenieff». Имеется также черновой автограф – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 15 об. В заголовке автографа – «Бартеньевой».
Впервые опубликовано в Соч. под ред. Висковатова (т. 1, 1889, стр. 55–56).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Прасковья Арсеньевна Бартенева (1811–1872) – известная певица, «московский соловей», как ее называли современники. В начале 30-х годов Бартенева уже часто выступала на великосветских концертах и балах. Позднее Бартенева получила звание камер-фрейлины и пела в Петербурге. Пресса 30-х годов богата восторженными отзывами о таланте Бартеневой. Многие поэты воспевают силу и красоту ее голоса.
Она поет… и сердцу больно,
И душу что-то шевелит,
И скорбь невнятная томит,
И плакать хочется невольно, —
писала в 1831 году поэтесса Е. Д. Сушкова (Ростопчина). Лермонтов, бывая на балах московской знати, где пела Бартенева, одним из первых среди поэтов-современников посвятил ей стихотворение.
Мартыновой
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 16.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1859, т. 125, № 7, отд. I, стр. 55).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Мадригал адресован одной из сестер Н. С. Мартынова – убийцы Лермонтова. Вернее всего, он обращен к Елизавете Соломоновне (род. в 1813 году) или Екатерине Соломоновне (род. в 1813 году).
Додо
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 16.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1859, т. 125, № 7, отд. I, стр. 55).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Додо – Евдокия Петровна Сушкова, впоследствии Ростопчина (1811–1858), поэтесса, друг Лермонтова.
«Талисман», упоминаемый в мадригале, – название стихотворения Ростопчиной, напечатанного П. А. Вяземским в альманахе «Северные цветы» на 1831 год.
Башилову
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 15. Копия – ИРЛИ, оп. 4, № 26 (тетрадь I В. X. Хохрякова), л. 3, под заголовком: «A Son Ex<cellence> М-г Ваchiloff» («Его превосходительству г-ну Башилову». – Франц.).
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1859, т. 125, № 7, отд. I, стр. 55–56).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Александр Александрович Башилов (1777–1847) – тайный советник, сенатор, в 1831 году – директор комиссии строений в Москве.
Кропоткиной
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 16 об. Автограф зачеркнут.
Впервые опубликовано в Соч. под ред. Висковатова (т. 1, 1889, стр. 56).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Какая Кропоткина имеется в виду, не установлено. Возможно, это племянница князя А. П. Кропоткина, Елизавета Ивановна, тогда невеста, а впоследствии жена Тиличеева, товарища Лермонтова по Московскому университету.
Щербатовой
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 16 об. Копия – ИРЛИ, оп. 4, № 26 (тетрадь В. X. Хохрякова), № 3, под заголовком «A la Princesse A. Tcherbatoff». («Княжне А. Щербатовой». – Франц.)
Впервые опубликовано в «Русск. мысли» (1882, № 2, стр. 174).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Княжна Анна Александровна Щербатова (1808–1870), в 30-х годах – фрейлина, в воспоминаниях и письмах современников упоминается как одна из красивейших женщин современной Лермонтову Москвы.
Булгакову
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 16 об.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1859, т. 125, № 7, отд. I, стр. 56).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Константин Александрович Булгаков (1812–1862) – сын московского почт-директора А. Я. Булгакова, впоследствии гвардейский офицер, гуляка и повеса, пользовавшийся особой благосклонностью вел. кн. Михаила Павловича. Лермонтов учился с Булгаковым в Московском благородном пансионе, где возникло впервые то неприязненное отношение к Булгакову, которое с такой резкостью звучит в эпиграмме. Незадолго до написания эпиграммы, 11 ноября 1831 года, К. Булгаков, как лучший танцор, был выбран с пятью товарищами на бал к князю С. М. Голицыну. В одном из своих писем А. Я. Булгаков извещал брата об успехах сына: «Когда Костя танцовал французскую кадриль, то государь глядел на него и сказал, кажется, Олсуфьеву: C'est le seul de tous ces messieurs, qui dance bien et qui soit bien tourné». («Из всех этих господ нет ни одного, кто бы так легко танцовал и был бы так строен». – Франц.) («Русск. архив», 1902, кн. 1, стр. 138). Возможно, что именно этот эпизод имел в виду Лермонтов, когда писал:
Недавно в платье Арлекина
Ты молодецки танцовал…
Образ К. А. Булгакова послужил прототипом для фигуры Углакова в романе А. Ф. Писемского «Масоны» (1880).
Сабуровой
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 16 об.
Впервые опубликовано в «Русск. мысли» (1882, № 2, стр. 173).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Какая Сабурова имеется в виду, не установлено.
Уваровой
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 17.
Впервые опубликовано в «Русск. мысли» (1882, № 2, стр. 173).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Какая Уварова имеется в виду, не установлено.
Вы не знавали князь Петра…
Печатается по автографу – ИРЛИ, оп. 1, № 4 (тетрадь IV), л. 17.
Впервые опубликовано в «Отеч. записках» (1859, т. 125, № 7, отд. I, стр. 56).
Датируется последними днями 1831 года по положению в тетради IV.
Эпиграмма относится к князю Петру Ивановичу Шаликову (см. примечание к «Эпиграммам» 1829 г.).
В одном из номеров издававшегося Шаликовым «Дамского журнала» (1832, ч. 37, № 3, стр. 46–48) помещен отчет о том самом маскараде, на котором Лермонтов читал свои мадригалы.
Стихотворения 1832 года
Люблю я цепи синих гор…
Люблю я цепи синих гор,
Когда, как южный метеор,
Ярка без света и красна
Всплывает из-за них луна,
Царица лучших дум певца
И лучший перл того венца,
Которым свод небес порой
Гордится, будто царь земной.
На западе вечерний луч
Еще горит на ребрах туч
И уступить всё медлит он
Луне – угрюмый небосклон;
Но скоро гаснет луч зари…
Высоко месяц. Две иль три
Младые тучки окружат
Его сейчас… вот весь наряд,
Которым белое чело
Ему убрать позволено.
Кто не знавал таких ночей
В ущельях гор иль средь степей?
Однажды при такой луне
Я мчался на лихом коне,
В пространстве голубых долин,
Как ветер, волен и один;
Туманный месяц и меня
И гриву и хребет коня
Сребристым блеском осыпал;
Я чувствовал, как конь дышал,
Как он, ударивши ногой,
Отбрасываем был землей;
И я в чудесном забытьи
Движенья сковывал свои,
И с ним себя желал я слить,
Чтоб этим бег наш ускорить;
И долго так мой конь летел…
И вкруг себя я поглядел:
Всё та же степь, всё та ж луна:
Свой взор ко мне склонив, она,
Казалось, упрекала в том,
Что человек с своим конем
Хотел владычество степей
В ту ночь оспоривать у ней!
Солнце
Как солнце зимнее прекрасно,
Когда, бродя меж серых туч,
На белые снега напрасно
Оно кидает слабый луч!..
Так точно, дева молодая,
Твой образ предо мной блестит;
Но взор твой, счастье обещая,
Мою ли душу оживит?
Я счастлив! – тайный яд течет в моей крови…
Я счастлив! – тайный яд течет в моей крови,
Жестокая болезнь мне смертью угрожает!..
Дай бог, чтоб так случилось!.. ни любви,
Ни мук умерший уж не знает;
Шести досток жилец уединенный,
Не зная ничего, оставленный, забвенный,
Ни славы зов, ни голос твой
Не возмутит надежный мой покой!..
Прощанье
Не уезжай, лезгинец молодой;
Зачем спешить на родину свою?
Твой конь устал, в горах туман сырой;
А здесь тебе и кровля и покой,
И я тебя люблю!..
Ужели унесла заря одна
Воспоминанье райских двух ночей;
Нет у меня подарков: я бедна,
Но мне душа создателем дана
Подобная твоей.
В ненастный день заехал ты сюда;
Под мокрой буркой, с горестным лицом;
Ужели для меня сей день, когда
Так ярко солнце, хочешь навсегда
Ты мрачным сделать днем;
Взгляни: вокруг синеют цепи гор,
Как великаны, грозною толпой;
Лучи зари с кустами – их убор:
Мы вольны и добры; – зачем твой взор
Летит к стране другой?
Поверь, отчизна там, где любят нас;
Тебя не встретит средь родных долин,
Ты сам сказал, улыбка милых глаз:
Побудь еще со мной хоть день, хоть час,
Послушай! час один!
– Нет у меня отчизны и друзей,
Кроме булатной шашки и коня;
Я счастлив был любовию твоей,
Но всё-таки слезам твоих очей
Не удержать меня.
Кровавой клятвой душу я свою
Отяготив, блуждаю много лет:
Покуда кровь врага я не пролью,
Уста не скажут никому: люблю.
Прости: вот мой ответ.
Она была прекрасна, как мечта…
Она была прекрасна, как мечта
Ребенка под светилом южных стран;
Кто объяснит, что значит красота:
Грудь полная иль стройный, гибкий стан
Или большие очи? – но порой
Всё это не зовем мы красотой:
Уста без слов – любить никто не мог;
Взор без огня – без запаха цветок!
О небо, я клянусь, она была
Прекрасна!.. я горел, я трепетал,
Когда кудрей, сбегающих с чела,
Шелк золотой рукой своей встречал,
Я был готов упасть к ногам ее,
Отдать ей волю, жизнь, и рай, и всё,
Чтоб получить один, один лишь взгляд
Из тех, которых всё блаженство – яд!
Время сердцу быть в покое…
Время сердцу быть в покое
От волненья своего
С той минуты, как другое
Уж не бьется для него;
Но пускай оно трепещет —
То безумной страсти след:
Так всё бурно море плещет,
Хоть над ним уж бури нет!..
Неужли ты не видала
В час разлуки роковой,
Как слеза моя блистала,
Чтоб упасть перед тобой?
Ты отвергнула с презреньем
Жертву лучшую мою,
Ты боялась сожаленьем
Воскресить любовь свою.
Но сердечного недуга
Не могла ты утаить;
Слишком знаем мы друг друга,
Чтоб друг друга позабыть.
Так расселись под громами,
Видел я, в единый миг
Пощаженные веками
Два утеса бреговых;
Но приметно сохранила
Знаки каждая скала,
Что природа съединила,
А судьба их развела.
Склонись ко мне, красавец молодой!
1
Склонись ко мне, красавец молодой!
Как ты стыдлив! – ужели в первый раз
Грудь женскую ласкаешь ты рукой?
В моих объятьях вот уж целый час
Лежишь – а страха всё не превозмог…
Не лучше ли у сердца, чем у ног?
Дай мне одну минуту в жизнь свою…
Что злато? – я тебя люблю, люблю!..
2
Ты так хорош! – бывало, жду, когда
Настанет вечер, сяду у окна…
И мимо ты идешь, бывало, да, —
Ты помнишь? – Серебристая луна,
Как ангел средь отверженных, меж туч
Блуждала, на тебя кидая луч,
И я гордилась тем, что наконец
Соперница моя небес жилец.
3
Печать презренья на моем челе,
Но справедлив ли мира приговор?
Что добродетель, если на земле
Проступок не бесчестье – но позор?
Поверь, невинных женщин вовсе нет,
Лишь по желанью случай и предмет
Не вечно тут. Любить не ставит в грех
Та одного, та многих – эта всех!
4
Родителей не знала я своих,
Воспитана старухою чужой,
Не знала я веселья дней младых, —
И даже не гордилась красотой;
В пятнадцать лет, по воле злой судьбы,
Я продана мужчине – ни мольбы,
Ни слезы не могли спасти меня.
С тех пор я гибну, гибну – день от дня.
5
Мне мил мой стыд! он право мне дает
Тебя лобзать, тебя на миг один
Отторгнуть от мучительных забот!
О наслаждайся! – ты мой господин!
Хотя тебе случится, может быть,
Меня в своих объятьях задушить,
Блаженством смерть мне будет от тебя.
Мой друг! – чего не вынесешь любя!
Девятый час; уж темно; близ заставы…
Девятый час; уж темно; близ заставы
Чернеют рядом старых пять домов,
Забор кругом. Высокий, худощавый
Привратник на завалине готов
Уснуть; – дождя не будет, небо ясно, —
Весь город спит. Он долго ждал напрасно;
Темны все окна – блещут только два —
И там – чем не богата ты, Москва!
Но, чу! – к воротам кто-то подъезжает.
Лихие дрожки, кучер с бородой
Широкой, кони черные. – Слезает,
Одет плащом, проказник молодой;
Скрыпит за ним калитка; под ногами
Стучат колеблясь доски. (Между нами
Скажу я, он ничей не прервал сон.)
Дверь отворилась, – свечка. – Кто тут? – Он.
Его узнала дева молодая,
Снимает плащ и в комнату ведет;
В шандале медном тускло догорая,
Свеча на них свой луч последний льет,
И на кровать с высокою периной
И на стену с лубошною картиной;
А в зеркале с противной стороны
Два юные лицá отражены.
Она была прекрасна, как мечтанье
Ребенка под светилом южных стран.
Что красота? – ужель одно названье?
Иль грудь высокая и гибкий стан,
Или большие очи? – но порою
Всё это не зовем мы красотою:
Уста без слов – любить никто не мог,
Взор без огня – без запаха цветок!
Она была свежа, как розы Леля,
Она была похожа на портрет
Мадоны – и мадоны Рафаэля;
И вряд ли было ей осьмнадцать лет;
Лишь святости черты не выражали.
Глаза огнем неистовым пылали,
И грудь волнуясь поцелуй звала;
Он был не папа – а она была…
Ну что же? – просто дева молодая —
Которой всё богатство – красота!..
И впрочем, замуж выйти не желая,
Чтό было ей таить свои лета?
Она притворства хитрости не знала
И в этом лишь другим не подражала!..
Не всё ль равно? – любить не ставит в грех
Та одного – та многих – эта всех!
Я с женщиною делаю условье
Пред тем, чтобы насытить страсть мою:
Всего нужней, во-первых, мне здоровье,
А во-вторых, я мешкать не люблю;
Так поступил Парни питомец нежный:
Он снял сертук, сел на постель небрежно,
Поцеловал, лукаво посмотрел —
И тотчас раздеваться ей велел!
Как в ночь звезды падучей пламень…
Как в ночь звезды падучей пламень
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело как камень,
Но всё под ним змея.
Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастьи нет.
Молю о счастии, бывало,
Дождался наконец,
И тягостно мне счастье стало
Как для царя венец.
И все мечты отвергнув снова,
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.
К *** (Я не унижусь пред тобою…)
Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней,
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец,
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец!
Я горд!.. прости! люби другого,
Мечтай любовь найти в другом;
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил;
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! – лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала – я тебя не знал!
<В альбом н. Ф. Ивановой>
Что может краткое свиданье
Мне в утешенье принести,
Час неизбежный расставанья
Настал, и я сказал: прости.
И стих безумный, стих прощальный
В альбом твой бросил для тебя,
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.
<В альбом д. Ф. Ивановой>
Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть,
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет.
Как луч зари, как розы Леля…
Как луч зари, как розы Леля,
Прекрасен цвет ее ланит;
Как у мадоны Рафаэля
Ее молчанье говорит.
С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна,
Нарочно, мнилося, она
Была для счастья создана.
Но свет чего не уничтожит?
Что благородное снесет,
Какую душу не сожмет,
Чье самолюбье не умножит?
И чьих не обольстит очей
Нарядной маскою своей?
Синие горы Кавказа, приветствую вас!
Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..
* * *
Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу всё темно, возвещали прохожему утро. И розовый цвет их подобился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг увидят мужчину купаясь, в таком уж смущеньи, что белой одежды накинуть на грудь не успеют.
Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры как стражи ночей отвечают!.. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, бежит безымянная речка, и выстрел нежданный, и страх после выстрела: враг ли коварный иль просто охотник… всё, всё в этом крае прекрасно.
* * *
Воздух там чист, как молитва ребенка. И люди, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит, в дымной сакле, землей иль сухим тростником покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружье, и шьют серебром – в тишине увядая душою – желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой.