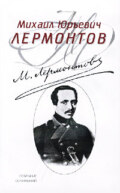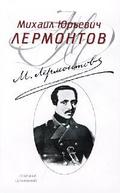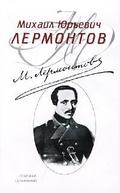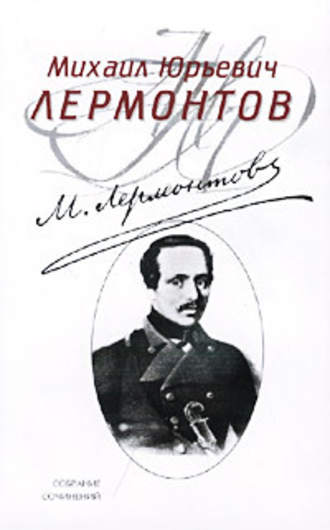
Михаил Лермонтов
Вадим
Глава XXII
Что же делал Вадим? о, Вадим не любил праздности! С восходом солнца он отправился искать сестру, на барском дворе, в деревне, в саду – везде, где только мог предположить, что она проходила или спряталась, – неудача за неудачей!.. досадуя на себя, он задумчиво пошел по дороге, ведущей в лес мимо крестьянских гумен: поровнявшись с ними и случайно подняв глаза, он видит буланую лошадь, в шлее и хомуте, привязанную к забору; он приближается... и замечает, что трава измята у подошвы забора! и вдруг взор его упал на что-то пестрое, похожее на кушак, повисший между цепких репейников... точно! это кушак!.. точно! он узнал, узнал! это цветной шелковый кушак его Ольги! Какой внезапный луч истины озарил ум печального горбача! она бежала: это ясно – но с кем? – с кем!.. разве нужно спрашивать... о, при одной мысли об нем, при одном имени Юрия, вся кровь Вадима превращается в желчь! «Нечего делать! – думал горбач, скрежеща зубами, – тебе удалось меня поддеть, ты из рук моих вырвал добычу, ты посмеялся над уродливым нищим, дерзкий безумец – но будет и на нашей улице... праздник!..» Он вскочил на лошадь, и ударами принудил измученного коня скакать по дороге в селение... в его голове уже развились новые планы, новые замыслы гибели и разрушения.
На широкой и единственной улице деревни толпился народ в праздничных кафтанах, с буйными криками веселья и злобы, вокруг казаков, которые, держа коней в поводу, гордо принимали подарки мужиков и тянули ковшами густую брагу, передавая друг другу ведро, в которое староста по временам подливал хмельного напитка. Девки и молодки в красных и синих кумачных сарафанах, по четыре и более, держа друг друга за руки, ходили взад и вперед по улице, ухмыляясь и запевая веселые песни; а молодые парни, следуя за ними, перешептывались и порою громко отпускали лихие шутки на счет дородности и румянца красавиц. Вино и брага приметно распоряжали их словами и мыслями; они приметно позволяли себе больше вольностей, чем обыкновенно, и женщины были приметно снисходительней; но оставим буйную молодежь и послушаем об чем говорили воинственные пришельцы с седобородыми старшинами? – отгадать не трудно!.. они требовали выдачи господ; а крестьяне утверждали и клялись, что господа скрылись, бежали; увы! к несчастию казаки были об них слишком хорошего мнения! они не хотели даже слышать этого, и урядник уже поднимал свою толстую плеть над головою старосты, и его товарищи уж произносили слово пытка; между тем некоторые из них отправились на барский двор и вскоре возвратились, таща приказчика на аркане. Урядник, по прозванию Орленко, мужчина в полном значении сего слова, высокий, крепкий сложением, усастый, с черною бородкой и румяными щеками, кинул презрительный взгляд на бледного приказчика, который, произнося несвязные слова и возгласы, стоял перед ним на коленах, с руками, связанными на спине; конец веревки был в руке одного маленького рябого казака, который, злобно улыбаясь, поминутно ее подергивал.
– Что это за птица, Грицкó? – сказал урядник маленькому казаку, – что это за кликуша?.. отчего ревет как вол?.. уж не он ли здешний господин?..
– А бис его знает! – отвечал Грицкó. – Говорит, шчо приказчик… ведь от этих москалей без плетки толку не добьешься… я его нашел под лавкой в кухне и насилу выкурил оттуда головешкой!..
Улыбка показалась на устах урядника, когда он заметил опаленные волосы и брови несчастного пленника, который, не спуская с него глаз и перестав кричать, казалось, старался на лице казака прочесть свой приговор.
– Так ты приказчик? – спросил Орленко, обратясь к нему грозно.
Несчастный задрожал, хотел что-то вымолвить и заикнулся.
– Что ж ты молчишь, собачий сын! – я тебе этим кинжалом расцеплю зубы!..
– Виноват! я приказчик!..
– А! так ты виноват! – сказал Орленко, наморщив брови и желая над ним позабавиться, – в чем же ты виноват? сейчас признавайся... а не то, видишь! – он пальцем указал на свои пистолеты!..
– Батюшка!.. нет, я ни в чем не виноват! ваше ж благородие! помилуй!
– Ты у меня запираться!..
– Виноват! – опять заревел приказчик... – сжальтесь! Я от страху не знаю, что говорю... я приказчик... если б я знал, где господа, так я бы сам их выдал нашему батюшке!.. я бы сам полюбовался на их виселицу... я бы сам их сжег на костре, сам бы своими руками с них кожу содрал с живых!..
– Будто бы! – точно ли?..
– Да убей меня бог! если я бы хоть один волосок за них отдал, злодеев!..
– Ну, а скажи-ка! отчего у тебя борода обрита?..
– Борода! – да так... а что, родимый!..
– Эй, ребята! – я замечаю, что это плут большой руки!..
– Ваше превосходительство! – сказал приказчик, привстав с бóльшею уверенностью, – извольте спросить у всех мирян, любил ли я господ своих…
– Эй, вы! правду ли он говорит?..
Мужики переминались, почесывали затылок, кашляли.
– Видишь, молчат! – сказал насмешливо Орленко... – да я подозреваю... уж не сам ли ты Палицын!.. борода-то мне подозрительна!.. эй, мужички!.. как вы думаете! ха, ха, ха!
Увы, народ молчал.
Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом – но, не встретив нигде сожаления, прикусил губу и не зная, что делать, закричал: «ах вы нехристы, бусурманы... что вы молчите, разве я не приказчик, Матвей Соколов; разве в первый раз вы меня видите... что это вы морочите честных людей. Ах вы каналии – разве забыли, как я вас порол... или еще хочется?»
Лукавые мужики покашливали; наконец, один из них, покачав головой, молвил: «пороть-то ты нас, брат, порол... грешно сказать, лучшего мы от тебя ничего не видали... да теперь-то ты нас этим, любезный, не настращаешь!.. всему свое время, выше лба уши не растут... а теперь, не хочешь ли теперь на себе примерить!..»
– Что же! ты его признаешь за барина своего? – спросил Орленко...
– Барин-то он не совсем барин, – сказал мужик, – да яблоко от яблони не далеко падает; куды поп, туда и попова собака...
– Что ж я буду с ним делать?..
– А что хочешь, кормилец! Нам всё равно!.. как присудишь!.. – заговорило несколько голосов.
Приказчик упал в ноги уряднику и заревел: «смилуйся, отец родной, золотой ты мой, серебряный, что я тебе сделал… неужто наш батюшка велит губить верных слуг своих».
– А на что ему таких трусов, таких баб, как ты! – вашей братьею только улицы мостить. – Эй, мужички, возьмите его себе... я вам его дарю на живот и на смерть! делайте из него, что хотите...
В одно мгновение мужики его окружили с шумом и проклятьями; слова смерть, виселица, отделяли<сь> по временам от общего говора, как в бурю отделяются удары грома от шума листьев и визга пронзительных ветров; все глаза налились кровью, все кулаки сжались... все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый! сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею...
Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея... и человек уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь в поту, с изорванными одеждами, явился перед казаками... Когда урядник его увидал, то снял шапку и поклонился, как старому знакомому, но Вадим, ибо это был он, не заметив его, обратился к мужикам и сказал: «отойдите подальше, мне надо поговорить о важном деле с этими молодцами»... мужики посмотрели друг на друга и, не заметив ни на чьем лице желания противиться этому неожиданному приказу, и побежденные решительным видом страшного горбача, отодвинулись, разошлись и в нескольких шагах собрались снова в кучку.
Тогда Вадим обернулся к уряднику:
– Здравствуй, Орленко, – сказал он отрывисто... – зверя я соследил, а поймать ваше дело...
– Уж ты молодец, Красная шапка... знаем мы тебя... – с этими словами Орленко ударил его по плечу...
Едва приметная тень неудовольствия пробежала по лицу Вадима, но обиженная гордость повиновалась необходимости... как быть! этим ли еще одним он пожертвовал для своей грозной цели?..
– Если хотите, я вас наведу на след Палицына: пожива будет, за это отвечаю, – только с условием... и чорт даром не трудится...
– Только укажи след, – сказал улыбаясь Орленко, – а уж за наградой дело не станет; сколько бы денег на нем ни нашли, – вот тебе крест, – десятую долю тебе!..
– Денег!.. нет, я не хочу денег...
– Чего ж ты хочешь... крови?..
– Да, крови! – с диким хохотом отвечал горбач.
– Что ж, и за этим дело не станет...
– О я вас знаю! Вы сами захотите потешиться его смертью… а что мне толку в этом! Что я буду? Стоять и смотреть!.. нет, отдайте мне его тело и душу, чтоб я мог в один час двадцать раз их разлучить и соединить снова; чтоб я насытился его мученьями, один, слышите ли, один, чтоб ничье сердце, ничьи глаза не разделяли со мною этого блаженства… о, я не дурак… я вам не игрушка… слышите ли…
Некоторые казаки были поражены его ужасными словами и мрачным выражением этого лица, на котором так недавно стали отражаться его чувства во всей полноте своей!.. другие, перемигиваясь, смеялись над странными его телодвижениями.
– Ах ты урод, – сказал урядник, – ну кто бы ожидал от тебя такую прыть! ха! ха! ха!
Вадим побледнел, бросил на казака тот взгляд, который был его главным оружием; топнул ногою, заскрежетал, отвернулся, чтоб не могли прочитать его бешенства в багровых ланитах. Все смотрели на него с изумлением.
– Коня! – закричал он вдруг, будто пробудившись от сна. Дайте мне коня... я вас проведу, ребята, мы потешимся вместе... вам вся честь и слава, – мне же... – он вскочил на коня, предложенного ему одним из казаков и, махнув рукою прочим, пустился рысью по дороге; мигом вся ватага повскакала на коней, раздался топот, пыль взвилась, и след простыл...
С отчаянием в груди смотрел связанный приказчик на удаляющуюся толпу казаков, умоляя взглядом неумолимых палачей своих; с дреколием теснились они около несчастной жертвы и холодно рассуждали о том, повесить его или засечь, или уморить с голоду в холодном анбаре; последнее средство показалось самым удобным, и его с торжеством, хохотом и песнями отвели к пустому анбару, выстроенному на самом краю оврага, втолкнули в узкую дверь и заперли на замок. Потом народ рассыпался частью по избам, частью по улице; все сии происшествия заняли гораздо более времени, нежели нам нужно было, чтоб описать их, и уж солнце начинало приближаться к западу, когда волнение в деревне утихло; девки и бабы собрались на заваленках и запели праздничные песни!.. вскоре стада с топотом, пылью и блеянием, возвращая<сь> с паствы, рассыпались по улице, и ребятишки с обычным криком стали гоняться за отсталыми овцами... и никто бы не отгадал, что час или два тому назад, на этом самом месте, произнесен смертный приговор целому дворянскому семейству!..
Глава XXIII
Вадим ехал перед казаками по дороге, ведущей в ту небольшую деревеньку, где накануне ночевал Борис Петрович. Он безмолвствовал; он мечтал о сестре, о родной кровле... он прощался с этими мечтами – навеки!
Казалось, его задумчивость как облако тяготела над веселыми казаками: они также молчали; иногда вырывалось шутливое замечание, за ним появлялись три-четыре улыбки – и только! вдруг один из казаков закричал: «стой, братцы! – кто это нам едет навстречу? слышите топот... видите пыль, там за изволоком!.. уж не наши ли это из села Красного?.. то-то, я думаю, была пожива, – не то, что мы, – чай, пальчики у них облизать, так сыт будешь... Э! да посмотрите... ведь точно видно они!.. ах разбойники, черти их душу возьми... Эк сколько телег за собой везут, целый обоз!..»
И точно, толпа, надвигающаяся к ним навстречу, более походила на караван, нежели на отряд вольных жителей Урала. Впереди ехало человек 50 казаков, предводительствуемых одним старым, седым наездником, на серой борзой лошади. За ними шло человек десять мужиков с связанными назад руками, с поникшими головами, без шапок, в одних рубашках; потом следовало несколько телег, нагруженных поклажею, вином, вещами, деньгами, и, наконец, две кибитки, покрытые рогожей, так что нельзя было, не приподняв оную, рассмотреть, что в них находилось; несколько верховых казаков окружало сии кибитки; когда Орленко с своими казаками приблизился к ним сажен на 50, то, велев спутникам остановиться и подождать, приударил коня нагайкой и подскакал к каравану. «Здравствуй! молодец, – сказал ему седой наездник с приветливой улыбкой, – откуда и куда путь держишь? – А мы из села Красного, разбивали панский двор... и везем этих собак к Белбородке!.. он им совьет пеньковое ожерелье, не будут в другой раз бунтовать...»
– Я отгадал, старый, что ты, верно, в Красном пировал... да, кажется, и теперь не с пустыми руками!..
– Да, нельзя пожаловаться на судьбу!.. бочки три вина везем к Белбородке!..
– К Белбородке!.. всё ему! А зачем!.. у него и без нас много! Эх, молодцы, кабы вместо того, чем везти туда, мы его роспили за здравье родной земли!.. что бы вам моих казачков не попотчевать? У них горло засохло как Уральская степь… ведь мы с утра только по чарке браги выпили, а теперь едем искать Палицына, и бог знает, когда с вами опять увидимся…
Старый обратился к своим и молвил: «эй! Ребята! Как вы думаете? Ведь нам до вечера не добраться к месту!.. аль сделать привал... своих обделять не надо... мы попируем, отдохнем, а там, что будет, то будет: утро вечера мудренее!..»
– Стой, – раздалось по всему каравану.
Стой! – скрыпучие колесы замолкли, пыль улеглась; казаки Орленки смешались с своими земляками и, окружив телеги, с завистью слушали рассказы последних про богатые добычи и про упрямых господ села Красного, которые осмелились оружием защищать свою собственность; между тем некоторые отправились к роще, возле которой пробегал небольшой ручей, чтоб выбрать место, удобное для привала; вслед за ними скоро тронулись туда телеги и кибитки, и, наконец, остальные казаки, ведя в поводу лошадей своих...
Когда Вадим заметил, что его помощники вовсе не расположены следовать за ним без отдыха для отыскания неверной добычи, особенно имея перед глазами две миловидные бочки вина, то, подъехав к Орленке, он взял его за руку и молвил: «итак сегодня нет надежды!»
– Да, брат... навряд, да признаюсь; мне самому надоело гоняться за этими крысами!.. сколько уж я их перевешал, право, и счет потерял; скорее сочту волосы в хвосте моего коня!..
Вадим круто повернул в сторону, отъехал прочь, слез, привязал коня к толстой березе и сел на землю; прислонясь к березе, сложа руки на груди, он смотрел на приготовления казаков, на их беззаботную веселость; вдруг его взор упал на одну из кибиток: рогожа была откинута, и он увидел... о если б вы знали, что он увидал? Во-первых, из нее показалась седая, лысая, желтая, исчерченная морщинами, угрюмая голова старика, лет 60, или более; его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен этой холодной гордости, которая иногда родится с нами, но чаще дается воспитанием, образуется от продолжительной привычки повелевать себе подобными. Одежда старика была изорвана и местами запятнана кровью – да, кровью... потому что он не хотел молча отдать наследие своих предков пошлым разбойникам, не хотел видеть бесчестие детей своих, не подняв меча за право собственности... но рок изменил! он уже перешагнул две ступени к гибели: сопротивление, плен, – теперь осталась третья – виселица!..
И Вадим пристально, с участием всматривался в эти черты, отлитые в какую-то особенную форму величия и благородства, исчерченные когтями времени и страданий, старинных страданий, слившихся с его жизнью, как сливаются две однородные жидкости; но последние, самые жестокие удары судьбы не оставили никакого следа на челе старика; его большие серые глаза, осененные тяжелыми веками, медленно, строго пробегали картину, развернутую перед ними случайно; ни близость смерти, ни досада, ни ненависть, ничто не могло, казалось, отуманить этого спокойного, всепроникающего взгляда; но вот он обратил их в внутренность кибитки, – и что же, две крупные слезы засверкав невольно выбежали на седые ресницы и чуть-чуть не упали на поднявшуюся грудь его; Вадим стал всматриваться с большим вниманием.
Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская, розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразимой улыбкой на устах; она прилегла на плечо старика так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозою и стопами прохожего, и с первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь, ибо в их взаимных ласках дышала одна печаль близкой разлуки, без малейших оттенок страсти, святая печаль, попечительное сожаление отца, опасения балованной, любимой дочери.
Тяжко было Вадиму смотреть на них, он вскочил и пошел к другой кибитке: она была совершенно раскрыта, и в ней были две девушки, две старшие дочери несчастного боярина. Первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленах; их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны... толпа веселых казаков осыпала их обидными похвалами, обидными насмешками... они однако не смели подойти к старику: его строгий, пронзительный взор поражал их дикие сердца непонятным страхом.
Между тем казаки разложили у берега речки несколько ярких огней и расположились вокруг; прикатили первую бочку, – началась пирушка... Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы, всё сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра; хор сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира, когда Вадим решился подойти к ним, замешаться в их веселие.
– За здравие пана Белбородки! – говорил один, выпивая разом полный ковшик. – Он первый выдумал этот золотой поход!..
– Чёрт его побери! – отвечал другой, покачиваясь; – славный малый!.. пьет как бочка, дерется как зверь... и умнее монаха!..
– Ребята!.. у кого из вас не замечен нынешний день на теле зарубкою, тот поди ко мне, я сослужу ему службу!..
– Ах ты хвастун, лях проклятый!.. ты во всё время сидел с винтовкой за амбаром... ха! ха! ха!..
– А ты, рыжий, где спрятался, признайся, когда старик-то заперся в светелке да начал отстреливаться...
– Я, а где бишь! да я тут же был с вами!.. да кто же, если не я, подстрелил того длинного молодца, что с топором высунулся из окна.
– Да это было прежде... ну, а если ты был тут, то скажи, что сделал старый боярин, когда наш Грицкó удалый повалил его сына?..
– Что? ничего!..
– Так врешь! – он положил его поперек окна и, прислонив к нему ружье, выстрелил в десятского... вот повалил-то! как сноп! уж я целил, целил в его меньшую дочь... ведь разбойница! стоит за простенком себе да заряжает ружья... по крайней мере две другие лежали без памяти у себя на постелях...
– А много ваших легло?..
– Да человек десяток есть!.. зато уж мы, как ворвались в дом, всех покрошили, кроме господ... да этим суждено умереть не молодецкой смертью...
– Чего же вы ждете?.. осины есть... веревки есть...
– Да власти нет... старшина велит вести их к Белбородке!..
– Эх, кабы я был старшина!..
Тут ковш еще раз пропутешествовал по рукам, и сухой вернулся к своему источнику!.. умы заклокотали сильнее, и лица разгорелись кровавым заревом.
– Кто вам мешает их убить! разве боитесь своих старшин? – сказал Вадим с коварной улыбкой.
Это была искра, брошенная на кучу пороха!.. «Кто мешает! – заревели пьяные казаки. – Кто смеет нам мешать!.. мы делаем, что хотим, мы не рабы, чорт возьми!.. убить, да, убить! отомстим за наших братьев... пойдемте, ребята»... и толпа с воем ринулась к кибиткам; несчастный старик спал на груди своей дочери; он вскочил... высунулся... и всё понял!..
– Чего вы хотите! – сказал он твердым голосом...
– А! старый ворон! Старый филин!.. мы тебя выучим воздушной пляске… пожалуй-ка сюда… да выходи же! – сказал один, подтверждая приказание ударом плетью...
Старик медленно вышел из кибитки, дочь выпрыгнула вслед за ним, уцепилась обеими руками за его платье, – «не бойся! – шепнул он ей, обняв одной рукою, – не бойся… если бог не захочет, они ничего не могут нам сделать, если же»… он отвернулся… о, как изобразить выражение лица бедной девушки!.. сколько прелестей, сколько отчаяния!..
– Разнимите их! – закричал один кривой исполин, приготавливая петлю. – Что они лижутся!..
Их хотели растащить... но девушка в бешенстве укусила жестокую руку... «перестань! – сказал отец твердым голосом! ты этим не поможешь, если мне суждено погибнуть от злодейских рук, без покаяния, как бусурману...»
– Не может быть! не может быть, батюшка... ты не умрешь!
– Отчего же, дочь! не может быть?.. и Христос умер!.. молись...
Она отрывисто качнула головой – и заплакала...
Боже! какие слезы!..
Несмотря на это, их растащили; но вдруг она вскрикнула и упала; отец кинулся к ней, с удивительной силой оттолкнул двух казаков – прижал руку к ее сердцу... она была мертва, бледна, холодна как сырая земля, на которой лежало ее молодое непорочное тело.
– Теперь пойдемте, – сказал старик; его глаза заблистали мрачным пламенем... он махнул рукою... ему надели на шею петлю, перекинули конец веревки через толстый сук и... раздался громкий хохот, потом вдруг молчание, молчание смерти!..
Но увы! еще не кончились его муки; пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху; мученик сорвался, ударился о-земь, – и нога его хрустнула... он застонал и повалился возле трупа своей дочери. «Убийцы! – прохрипел он... – вот вам мое проклятье! проклятье!..» – «Заткни ему горло!» – сказал Орленко... это было сожаленье...
Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, и он умолк.
Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле... О, это было ужасно... они смеялись!..
Божественная, милая девушка! и ты погибла, погибла без возврата... один удар – и свежий цветок склонил голову!.. твое слабое сердце, как нить истлевшая – разорвалось... Ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладило отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца... грозные лица окружали твое сырое смертное ложе, проклятие было твоим надгробным словом!.. какая будущность! какое прошедшее! и всё в один миг разлетелось; так иногда вечером облака дымные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются в столпы огненные, сплетаются в фантастические хороводы, и замок с башнями и зубцами, чудный, как мечта поэта, растет на голубом пространстве... но дунул северный ветер... и разлетелись облака, и упадают росою на бесчувственную землю!.. Мир с тобою, дева красоты, да ангел твой хранитель споет над твоим прахом песнь мира, любви и прощанья...
А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт! он, чье неуместное слово было всему виною...
Погодите, это легко объяснить вам.
Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих – и нашел, что душу ничего не волнует;
Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека... и нашел, что есть испытания, которых перенесть никто не в силах... это ему подало надежду увидать слезы, раскаяние Палицына – увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха... надежда усладительная, нет никакого сомнения.
Уж было темно; огни догорали, толпа постепенно умолкала, и многие уж спали беззаботно...
Луна, всплывая на синее небо, осеребрила струи виющейся речки и туманную отдаленность; черные облака медленно проходили мимо нее, как ночной сторож ходит взад и вперед мимо пылающего маяка...
Вадим сидел на своем прежнем месте, под толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. К нему подошел Орленко:
– Посмотри, как весело! отчего ты один сердит, задумчив, горбач? – сказал он, ударив его по плечу.
– Ты видишь это облако, которое как медвежья косматая шуба висит над месяцем?.. – отвечал Вадим, приподняв голову с презрительной усмешкой.
– Вижу!
– Ну а как ты думаешь, что таится в глубине его?..
– Что?.. по-моему, гром и молния – вишь как насупилось...
– И ты спрашиваешь, зачем я угрюм и молчалив?..
Орленко, не поняв горбача, пожал плечами и отошел прочь...