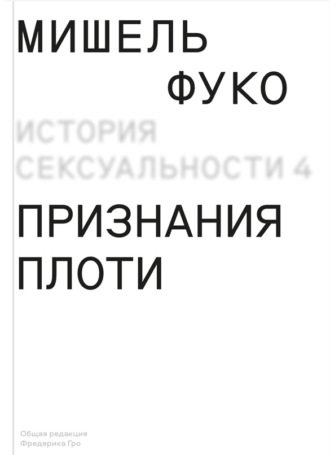
Мишель Фуко
История сексуальности 4. Признания плоти
1. Опрос. Это сравнительно простая процедура, представляющая собой обмен вопросами и ответами. Она совершалась если не тайно, то во всяком случае в узком кругу участников: это были «учителя», ответственные за катехуменат, сам постулант и те, кто его «привел», а затем выступал в роли свидетелей и поручителей[197]. По-видимому, опрос касался прежде всего внешних тем: социального статуса постуланта, его профессиональных занятий (в силу ряда несовместимостей) и образа жизни. Но в нем затрагивались и внутренние темы, особенно отношение постуланта к ранее практиковавшейся им религии, и причины, которые привели его к христианской вере. «Пусть {постуланты} приводятся сначала в присутствии учителей, прежде чем войдет весь народ, и пусть спросят их о причине, вследствие которой они обращаются к вере. И те, которые их привели, пусть засвидетельствуют, что приведенные готовы к слушанию Слова. Пусть спросят об их образе жизни: „Женат ли, раб ли?“ <…> Следует интересоваться делами и занятиями тех, которые приводятся, чтобы наставлять, в чем они должны пребывать»[198].
Будучи приняты в качестве слушателей, оглашенные должны были вести в течение периода, который мог длиться до трех лет, жизнь, сочетавшую обучение основополагающим истинам с соблюдением религиозных обетов и некоторых правил поведения, а также с исполнением послушаний и добрых дел. По окончании этого этапа они подвергались второму опросу, очень близкому по характеру с предыдущим. Вновь опрашивались и свидетели-поручители. Но на сей раз опрос относился уже к периоду катехумената: «Когда будут определены намеревающиеся принять крещение, пусть исследуется их жизнь: жили ли они честно, пока были оглашенными, почитали ли вдов, посещали ли больных, совершали ли добрые дела? И когда те, которые привели их, засвидетельствуют о каждом: „Он поступал именно так“, то пусть слушают Евангелие»[199]. После этого оглашенные получали допуск к крещению и переходили к более интенсивной подготовке. Она длилась несколько недель, обычно накануне Пасхи, и включала в себя молитвы, посты, бдения, строгость которых должна была свидетельствовать о вере оглашенных. Этот период {Иоанн} Златоуст позднее назовет «временем палестры»[200].
2. Испытания экзорцизмом. Наложение рук и обдувание лица – древние ритуалы изгнания духов, овладевших телом и душой человека, – издавна связывались с крещением[201], но, как кажется, приобрели особое распространение {в христианской практике} в IV веке, когда их стали использовать сразу после вступления постуланта в «орден» оглашенных[202] и повторять несколько раз в период его пребывания слушателем. В конце же II века, если верить «Апостольскому преданию», торжественное заклинание обязательно совершалось незадолго до крещения: «Когда приближается день, в который они будут крещены, епископ заклинает каждого из них, чтобы узнать, чист ли он (ut possit cognoscere si mundi sunt). Если кто-нибудь из них недостоин или нечист, то пусть он располагается отдельно, так как не слушал Слово с верой…»[203]. Во времена святого Августина обряд того же типа совершался перед самым крещением[204]. Оглашенный сбрасывал с себя власяницу и попирал ее ногами. Этот жест, означавший изгнание из себя ветхого человека, входил в число традиционных практик экзорцизма. Епископ произносил проклятия, а оглашенный, выслушивая их без всякого противления, тем самым показывал, что свободен от нечистых духов. Тогда епископ возглашал: «Vos nunc immunes esse probavimus» {лат. «Отныне вы испытаны и свободны»}.
Эти виды экзорцизма, несомненно, не имели мишенью одержимость, подобную одержимости бесноватых[205]. Наложение рук, скорее, обозначало передачу власти, которая переходила от злого духа, воцарившегося в душе человека после грехопадения, к Духу Святому. Злого духа низвергала, сокрушала и изгоняла из души и тела, где он обосновался, власть того, кто сильнее его и не может ни сосуществовать с ним, ни, как следствие, сойти в душу, из которой он еще не изгнан[206]. Вместе с тем экзорцизм был испытанием истины: изгоняя злого духа, он совершал в душе разделение чистого и нечистого, подвергал ее процедуре аутентификации сродни той, которой подвергается металл, закаляемый в пламени[207], – изгонял из души всё, что ее извращало, а затем оценивал степень ее чистоты. Принятые в этой традиции выражения наряду с формулой, приводимой Святым Августином, ясно говорят о том, что экзорцизм «испытывает», «показывает» и позволяет «распознать», то есть по-своему экзаменует душу.
Этим объясняется терминология, которая регулярно использовалась в IV веке и позднее для описания этих практик экзорцизма. Так, Амвросий {Медиоланский} в трактате «Explanatio symboli» {«Объяснение Символа»}, растолковывая тем, кто готовится принять крещение, смысл обрядов, которым их подвергают, называет экзорцизм «mysteria scrutaminum» {лат. тайны испытаний}: «Было проведено исследование, чтобы в теле кого-нибудь не осталось нечистоты. Посредством экзорцизма мы испросили и получили освящение не только тела, но и души»[[208]]. Тот же смысл придает экзорцизму и епископ Кводвультдеус {Карфагенский}, так обращающийся к тем, кто принимает таинство: «Вас удостоили изучением, и вот дьявол извергнут из вашего тела, а Христос, смиренный и всевышний, призван в вас. Теперь спроси́те: испытай меня, Господи и познай мое сердце»[[209]].
3. И наконец, исповедание грехов, которое не упоминается в качестве предварительного условия крещения ни в «Дидахэ», ни в «Апологии» Юстина, но регулярно упоминается в «De baptismo» Тертуллиана: «Тем, кто собирается креститься, нужно к этому приготовиться частыми молитвами, постом, коленопреклонениями, бдением и исповеданием всех прошлых своих грехов, чтобы выразить тем самым суть крещения Иоаннова. Сказано: И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои»[210]. Очевидно, что это «исповедание» существенно отличалось от опроса, с которого начиналось и которым заканчивалось время, когда оглашенный считался слушателем. От него уже не требовали предоставить уполномоченным лицам сведения о его жизни и поведении в прошлом – теперь он сам должен был совершить некоторое действие наряду с прочими упражнениями в аскезе и набожности. Было ли это подробное признание во «всех грехах», совершенных ранее? Тертуллиан лишь говорит, что нынешние христиане должны радоваться, что им не приходится, как во времена Иоанновы, «открыто признаваться в своих несправедливых и постыдных делах»[[211]]. Значит ли это, что оглашенный должен был исследовать свою прошлую жизнь, вспомнить свои грехи и поведать их лично епископу или тому, кто был назначен его наставником? Возможно. И более поздние тексты ясно дают понять, что в это время тот, кто готовился креститься, должен был совершить в присутствии епископа или священника[212] особый акт, в ходе которого он «исповедовал» свои грехи.
Как бы то ни было, стоит напомнить, что термин confessio имел тогда очень широкое значение, эквивалентное греческому слову «экзомологеза»[213]: акт признания себя грешником, в какой бы форме он ни был совершен. И «confessio peccatorum» {лат. исповедание грехов}, к которому призывали желающего стать христианином, конечно же, нельзя сравнивать с припоминанием и подробным, исчерпывающим изложением всех грехов сообразно их категориям, обстоятельствам и тяжести; [скорее, нужно представлять себе][214] некий акт или несколько актов, посредством которых оглашенный признавал себя грешником перед Богом и, при необходимости, перед священником. В сущности, от него требовалось проявить понимание того, что он согрешил, что он является грешником и что он хочет выйти из этого состояния. Это было скорее свидетельство себя о себе и удостоверение перехода {из одного состояния в другое}, нежели обзор путем воспоминания и рассказа «всех грехов», совершенных в прошлом.
Именно такой смысл, как кажется, проступает в следующем отрывке из трактата святого Амвросия «De sacramentis» {«О таинствах»}: «Итак, когда ты дал свое имя [для крещения], Он взял грязь и помазал твои глаза. Что это означает? Это для того, чтобы ты признал (fatereris) свой грех, чтобы ты испытал совесть (conscientiam recognoscere), чтобы принес покаяние за преступления (paenitentiam gerere), а значит, чтобы ты признал (agnoscere) удел рода человеческого. Ведь тот, кто приходит к крещению, не исповедует открыто свои грехи, но тем самым он совершает исповедание всех грехов, ибо он стремится быть крещеным для того, чтобы быть оправданным, то есть чтобы перейти от вины к благодати. <…> Ведь нет человека без греха. Поэтому лишь тот, кто прибегает к крещению Христову, признает себя человеком (agnoscit se hominem)»[215].
Важный текст – прежде всего потому, что он позволяет оценить размах значений слова confessio: от акта действительного признания в определенном грехе до согласия с тем, что, будучи человеком, нельзя не быть грешником; но вместе с тем и потому, что он ясно показывает: переход от вины к благодати, относящийся к сути крещения, может осуществиться лишь при условии некоторого «акта истины». Акта «рефлективного» в том смысле, что оглашенный призван открыто, в утвердительной форме проявить сознание своей греховности. Ни отпущения грехов, ни спасительного доступа к свету не будет, если не будет акта, в котором утвердит себя истина греховной души, служащая вместе с тем истинным признаком воли души к разрыву с грехом. «Говорить правду о себе» принципиально важно в этой игре очищения и спасения.
Вообще, с конца II века становится заметно, как возрастает в экономии спасения каждой души роль проявления ею своей собственной истины: в форме «опроса», когда индивид становится ответчиком или объектом свидетельства; в форме очистительного испытания, когда он становится мишенью экзорцизма; и наконец, в форме «исповеди», когда он одновременно становится говорящим субъектом и объектом своего рассказа, целью которого при этом является не столько дать точный отчет о грехах, подлежащих отпущению, сколько удостоверить, что индивид чувствует себя грешником. Ясно одно: практика исповеди перед крещением не может быть понята в ее форме и эволюции вне связи с таким важнейшим процессом, как формирование с конца II века «второго покаяния».
Учреждение катехумената, стремление подчинить постулантов строгим правилам жизни, внедрение процедур верификации и аутентификации не могут быть отделены от новшеств в теологии крещения, которые заявляют о себе начиная с III века: эти новшества составляют целый ансамбль, в котором перекликаются и поддерживают друг друга литургия, церковные установления, пастырская практика и элементы теории. Речь, однако, идет не о новой теологии крещения, а о смене акцентов в этой теологии. Ее самыми чувствительными точками оказываются в это время темы смерти и духовной борьбы.
С тех пор как крещение было осознано как возрождение и второе рождение, оно предполагало некоторую связь со смертью – по крайней мере в том смысле, что после первого рождения, обреченного смерти, даровало «возрождение» к истинной жизни. Крещение соотносилось со смертью постольку, поскольку избавляло от нее. Так, Ерма говорил о душах-камнях, из которых строится Башня Церкви: «Им было необходимо <…> пройти чрез воду, чтобы оживотвориться; не могли они иначе войти в царство Божие, как отложив мертвость прежней жизни»[216]. Но с конца II века всё чаще обсуждается тезис о том, что крещение, открывающее доступ к жизни, само должно быть смертью, и если Христос своим воскресением возвестил о «новом рождении», то своей смертью он показал, что есть крещение. Для человека крещение – это возможность умереть с Христом и во Христе. В конце обсуждаемого периода в теологии крещения происходит поворот к Посланию к Римлянам и к павлианской концепции крещения как смерти: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых <…>, так и нам ходить в обновленной жизни»[217].
Тертуллиан в трактате «De resurrectione carnis», ссылаясь на апостола Павла, провозгласил принцип, согласно которому в крещении мы, «как и Христос», умираем per simulacrum {лат. подобием [смерти]}, но per veritatem {лат. поистине} воскресаем во плоти[218]. Однако особое развитие эта тема связи крещения со смертью через страсти Христовы получила уже после Тертуллиана, который не касается ее ни в трактате о покаянии, ни в трактате о крещении. Возник целый ряд аналогий: между погружением и погребением[219], между купелью и формой гроба[220], между троекратным окунанием в воду вслед за троекратным исповеданием веры и тремя днями, которые прошли от Распятия до Воскресения[221]. Из этих аналогий выросло несколько тем. Прежде всего здесь нужно упомянуть идею о том, что крещение должно сопровождаться умерщвлением ветхого человека: согласно Посланию к Римлянам, нужно распять его, «чтобы упразднено было тело греховное»[222].
Ориген видит прообраз «соленого и горького» крещения в пересечении пустыни, которого потребовало возвращение в Землю обетованную[223]. Но поскольку прежняя жизнь, от которой мы отрекаемся, распиная ее на кресте, сама была лишь смертью, крещение следует понимать как смерть смерти. Именно об этом говорит святой Амвросий в важном отрывке из «De sacramentis»: после того как Адам согрешил, Бог осудил человека на смерть. Ужасная и непоправимая кара? Нет, по двум причинам: потому, что Бог позволил человеку воскреснуть, но также и потому, что смерть, полагая предел смертной жизни, полагает и предел греху: «…когда мы умираем, мы непременно перестаем грешить». Таким образом, смерть, орудие наказания, оказывается в сочетании с воскресением орудием спасения: «…то, что прежде послужило в качестве осуждения, впоследствии стало благодеянием»; «…и то и другое – для нас, потому что и смерть – это окончание грехов, и воскресение – это восстановление природы»[224]. Иначе говоря, крещение переворачивает смысл смерти: оно есть смерть, несущая смерть греху и смерти, а потому желанная для нас.
Более того, эта смерть в крещении должна не только послужить окончательным погребением останков греховной жизни, от которой отрекается христианин, но и отметить его печатью, которую он будет нести на себе в течение всей своей христианской жизни. В самом деле, с печатью крещения христианин получает знак Распятия и обязуется подчинить этому «подобию» свою жизнь. На смену принципу homoiôsis tô theô {греч. подобие богу}, который обещал тому, кто сможет ему соответствовать, жизнь в свете и вечности, приходит принцип подобия Христу в его страстях и, как следствие, христианской жизни под знаком умерщвления.
1. Эта реорганизация концепции крещения вокруг смерти или, во всяком случае, вокруг отношения «смерть – воскресение» имеет три следствия, касающиеся понимания необходимой для крещения метанойи. Первое следствие заключается в том, что обращение души, отречение, посредством которого мы отступаемся от греховного мира и уходим с пути смерти, чем дальше, тем всё отчетливее приобретает форму упражнения себя над собой, состоящего в умерщвлении – намеренном, усердном, непрерывном уничтожении всего, что только способно поддаться греху в наших душе или теле. Второе следствие заключается в том, что это умерщвление не должно ограничиваться моментом крещения, но должно вестись также в ходе длительной и медленной подготовки к нему. Мало того, оно не должно заканчиваться с искупительным погружением в воду, но должно продолжаться в течение жизни-умерщвления {vie de mortification}, которой положит предел только смерть. Крещение как смерть и воскресение отныне не просто обозначает вход в христианскую жизнь: оно служит постоянной матрицей этой жизни. И наконец, третье следствие заключается в том, что требование «probatio», которое должно было верифицировать желание и способность постуланта получить доступ к истине, отныне, сохраняя эту роль, будет предоставлять всё большее место системе «испытаний», служащих одновременно упражнениями в умерщвлении и аутентификацией этой смерти во грехе, этой смерти «в смерти греха». Отношение себя к себе, понимаемое как труд себя над собой и как познание себя собой, получает, таким образом, всё более заметное место в общем процессе обращения-покаяния, обозначаемом словом «метанойя».
2. Но в дело вмешивается и другой фактор, имеющий следствия, которые присоединяются к предыдущим. Это развитие в рамках теологии греха и крещения темы Врага, присутствующего в душе и помыкающего ею. Действительно, не стоит заблуждаться: спецификация и умножение практик экзорцизма в течение катехумената, а также в обрядах, непосредственно предшествующих крещению, не были признаками торжества некоей демонологической концепции зла. Скорее, речь шла о целом комплексе усилий, направленных на сопряжение в новой идее первородного греха принципов всемогущества Бога, готового спасти человека, и ответственности каждого за свое спасение. Одно из таких усилий проявилось в концепции Тертуллиана, который усматривал следствие грехопадения не только в том, что человек оказался обречен смерти, его душа – развращена, а его жизнь – ввергнута во зло, но и, что более существенно, в том, что Сатана смог обрести господство над людьми всюду вплоть до самых глубин их сердец. Будучи юристом, Тертуллиан, судя по всему, понимал это господство скорее как владение {possession} – юрисдикцию и осуществление власти, чем как одержимость {possession} – проникновение в душу посторонних сущностей. Поэтому следствием крещения должно было стать «прекращение владения» {dépossession} в двух аспектах: Святой Дух обретал обитель в душе, освобожденной путем очищения, а человек становился сильнее бесов, мог отныне сопротивляться и даже приказывать им. Весь путь от грехопадения к спасению приобрел характер одного большого поединка, соотношение сил в котором переворачивалось: человек не был безусловно обречен злу до пришествия Спасителя, но и после его жертвоприношения никто не мог рассчитывать на безусловное искупление. Всюду шла борьба – но не борьба Бога с принципом зла, а борьба человека с тем, кто восстал против Бога, вознамерился овладеть душой человека и не мог вынести «без стона» попытку изгнать его оттуда.
Именно эта тема духовной борьбы будет начиная со II века определять смысл как подготовки к крещению, так и его ожидаемых следствий. Подготовка должна быть борьбой с Врагом, неустанно возобновляемым стремлением его победить, призывом к Христу оказать человеку поддержку и превозмочь его слабости. Однако крещение не сулит ни безопасности, ни покоя: лишенный своего владения, Враг лишь рассвирепеет; потеряв господство над душой, он будет пытаться захватить ее вновь. И если христианин не подготовился к христианской жизни как следует, он снова впадет во грех.
Очевидно, что, подобно тому как тема смерти, имплицитно содержащаяся в темах возрождения, второго рождения и воскресения, сместилась в сторону темы умерщвления, тема очищения, избавляющего душу от нечистот, смещается в сторону темы духовной борьбы. И каждый из двух этих сдвигов отдает всё более важную роль субъекту: крещение должно подготавливаться, сопровождаться и продолжаться процедурами, которые субъект совершает над собой в форме умерщвления или внутри себя в форме духовной борьбы. Устанавливается сложное, напряженное, изменчивое отношение субъекта к самому себе. Разумеется, вероучение никоим образом не допускало возможности посягательства этого отношения на всемогущество Бога (хотя теоретическая разработка системы этого всемогущества с учетом свободы человека оказалась очень трудной задачей). Но если ограничиться нашей нынешней темой, то очевидно, что это отношение себя к себе стало необходимым условием шествия субъекта к свету и спасению.
3. Всё это подводит нас к еще одному сдвигу акцента в доктрине крещения, который касается самого действия крещения как таинства. Здесь я буду очень краток и ограничусь тем, что напомню тезисы на этот счет, высказанные Оригеном в начале III века и святым Августином в конце IV века.[225]
3. [Второе покаяние]
Известна четвертая заповедь «Пастыря» Ермы: «Господин, я слышал от некоторых учителей, что нет иного покаяния, кроме того, когда сходим в воду и получаем отпущение прежних грехов наших». Ангел покаяния отвечает на это: «Справедливо ты слышал. Ибо получившему отпущение грехов не до́лжно более грешить, но жить в чистоте. И так как ты обо всем расспрашиваешь, объясню тебе это, не давая повода к заблуждению тем, которые собираются уверовать или только что уверовали в Господа. Они не имеют покаяния во грехах, но имеют отпущение прежних грехов своих. Тем же, которые призваны прежде, положил Господь покаяние, ибо Он сердцеведец, провидящий всё, знал слабость людей и великое коварство дьявола, который будет сеять вред и злобу среди рабов Божиих. Поэтому милосердный Господь сжалился над своим созданием и положил покаяние, над которым и дана мне власть. Итак, я говорю тебе, после этого великого и святого призвания, если кто, будучи искушен дьяволом, согрешил, – пусть покается. Если же часто он будет грешить и творить покаяние, – не принесет ему покаяние пользы, ибо с трудом он будет жить с Богом»[226].
Долгое время этот текст считался доказательством того, что в раннем христианстве не существовало никакого другого покаяния кроме того, которым сопровождалось крещение, и свидетельством о том, что в середине II века для уже окрещенных грешников была предусмотрена вторая возможность покаяться – тоже торжественная и не допускающая повторения возможность, из которой и вырос после ряда преобразований институт покаяния. Я не возьмусь здесь обозревать, даже в самом общем виде, дискуссии вокруг этого пассажа Ермы. Свидетельствует ли он о первом существенном смягчении первоначальной строгости? Вложена ли в него критика слишком суровых воззрений «некоторых учителей» (интересно, кстати, кого именно)? Скрывается ли за ним различие двух поучений – даваемого до крещения и предназначенного для тех крещеных, которых допускали ко второму покаянию? Было ли второе покаяние, как можно предположить из текста Ермы, своего рода юбилеем, то есть особым случаем, возможным лишь единожды, или его неотложность, необходимость и единственность диктовались ожиданием второго пришествия Христа в ближайшем будущем?[227]
Отметим для себя только, что о необходимости метанойи, раскаяния-покаяния, вновь и вновь напоминали христианам тексты апостольского периода. Конечно, в Послании к Евреям сказано, что «невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием»[228]. Но речь в этом тексте идет о единственности крещения как акта полного «обновления» индивида. Он не исключает для тех, кто уже крещен, ни возможности отвратиться от своих {вновь совершенных} грехов, ни права просить об их прощении: «Итак, в чем мы согрешили по каким-либо наветам Врага, должны мы умолять о прощении»[229]. Это моление могло принимать ритуальные и коллективные формы: «В церкви исповедуй согрешения твои и не приступай к молитве твоей с совестью лукавой»[230]. На воскресных собраниях следовало преломлять хлеб и благодарить Господа, «исповедав предварительно согрешения ваши, чтобы жертва ваша была чиста»[231]. В этом раскаянии, которое полагалось испытать и предъявить каждому, должна была участвовать вся община: либо в форме взаимного исправления («Взаимно делаемое нами друг другу вразумление хорошо и весьма полезно, ибо оно прилепляет нас к воле Божией»[232]); либо в форме заступничества перед Богом одних за других[233]; либо в форме постов и молитв, совершаемых вместе с теми, кто согрешил[234]. Пресвитерам же следовало быть «благосердыми, милостивыми ко всем» и «обращать заблуждающихся»[235].
Таким образом, раскаяние и мольба о прощении составляли неотъемлемую часть существования верующих и жизни христианской общины еще до того, как Ерма провозгласил установление второго покаяния устами ангела, которому оно было препоручено. Не следует забывать, что метанойя – это не просто переориентация, непременно происходящая при крещении, не просто обращение души, совершаемое нисходящим в нее Духом. Крещением мы призываемся «к метанойе»[236] как к исходной точке и в то же время общей форме христианской жизни. Раскаяние, к которому призывают христиан тексты «Дидахэ», Климента и Варнавы, совпадает с раскаянием, сопровождавшим крещение: это его продолжение, развитие его движения. Поэтому «Пастырь» не свидетельствует о переходе от некоей Церкви праведников к общине, которая признает, что в нее входят грешники, и начинает с этим считаться. Как не свидетельствует он и о переходе от ригоризма, признающего лишь покаяние при крещении, к некоей более либеральной практике. Скорее, речь идет о поиске способа институционализации покаяния после крещения и возможности повторять, полностью или частично, процедуру очищения (и даже искупления), в первый раз происходящую при крещении. Действительно, речь идет именно о проблеме повторения в экономии спасения, просвещения и доступа к истинной жизни, которая по определению допускает только одну необратимую ось времени, достигающую кульминации в одном решающем и уникальном событии.
Оставляя в стороне историю этой институционализации, а также возникшие вокруг нее теологические и пастырские дебаты, я ограничусь рассмотрением тех форм, которые начиная с III века стало принимать «каноническое» покаяние, то есть проводившихся под эгидой христианских Церквей ритуальных церемоний для тех, кто совершал тяжкие грехи, за которые не мог получить прощение путем раскаяния и молитв. Как крещеный христианин мог вновь получить прощение, если он пренебрег взятыми на себя обязанностями и отвратился от обретенной им благодати?
Это примирение {с Богом} определяется по образцу крещения, хотя и не является его повторением, ибо заново креститься невозможно. Благодать при крещении даруется раз и навсегда, грехи отпускаются окончательно, мы можем возродиться лишь единожды[237]. Однако «покаяние», которым крещение предваряется и сопровождается, движение, посредством которого душа отрекается от своих грехов и умирает крестильной смертью, и прощение, даруемое Господом в его милосердии, могут быть возобновлены. Следовательно, нет второго крещения[238], но есть, как говорил уже Тертуллиан, «вторая надежда», «вторая дверь», в которую грешник может постучать, когда дверь крещения закрыта Господом; есть «повторное» или, вернее, «умноженное» благодеяние, ибо «давать вновь – дело большее, нежели просто давать», – paenitentia secunda {лат. второе покаяние}[239], необходимое, как будет уточнено в укор новацианам, чтобы не лишать надежд согрешивших и не побуждать тех, кто еще не принял христианство, откладывать крещение[240].
Связь второго покаяния с крещением всячески подчеркивалась. Прежде всего, существовал принцип, согласно которому в обоих случаях действует и прощает грехи Святой Дух: «Люди просят, и Бог дарует, ибо <…> Высшей Власти свойственна щедрость»[241]. При крещении и примирении с Богом священники совершают одно таинство, одно служение, исполняют одну власть: «В крещении подается прощение всех грехов: <…> какое различие в том, через покаяние или через крещение священники присваивают себе это право?»[242]. Как вода крещения смыла прошлые грехи, так и слезы покаяния смывают грехи, совершенные после крещения[243]. И несмотря на стремление закрепить именно за крещением власть воз-рождения {re-naître}, пере-рождения {ré-générer}, встречаются и указания[244] на то, что покаяние ведет [от смерти к жизни][245]. Характерен в этом отношении трактат святого Амвросия «De paenitientia» {«О покаянии»}. Вначале покаяние связывается с историей самарянина из Евангелия от Луки: подобно раненому человеку на пути в Иерихон, грешник может быть спасен, так как он еще «полумертв»; будь он мертв, что бы можно было для него сделать?[246] Нужно ли побуждать каяться тех, кто не может быть исцелен? Однако во второй книге того же трактата покаяние сравнивается с воскрешением Лазаря: «По исповедании твоем разрушатся все узы и прервутся все оковы, хотя бы от повредившегося тела и тяжкий смрад был. <…> видите в Церкви мертвых, воскресающих при отпущении им грехов»[247].
Словом, не будучи христианином, спасение можно получить только через крещение, а христианам, согрешившим после крещения, его дарует лишь покаяние[248]. Таким образом, есть два пути к спасению, и вслед за Амвросием это повторит папа Лев[249].
Столь последовательно проведенная аналогия с крещением объясняет парадокс, в силу которого покаяние, будучи в некотором роде «повторением» крещения (или во всяком случае отдельных его элементов), само по себе неповторимо. Оно тоже уникально: «Ибо как есть одно крещение, так одно и покаяние»[250]. Поэтому не стоит удивляться тому, что покаяние – по крайней мере до некоторой степени – строится по модели крещения и подготовления к нему.
Каноническое покаяние постепенно приобретает форму «второго новициата»[251]. Выражение «paenitentiam agere» {лат. совершать покаяние}, которым широко обозначали все формы покаяния (даже внутренние), применявшиеся грешниками, чтобы добиться прощения грехов (при условии их не слишком большой тяжести), также использовалось для обозначения порядка совершения процедуры покаяния – под наблюдением священников, с применением ряда четко определенных практик – в тот момент, когда она необходима, и в течение определенного времени[252]. Практикуемое таким образом покаяние является уже не просто действием или серией действий, но некоторым статусом[253]. «Кающимися» становятся – по правилам, которым должны подчиняться не только грешники, но и священники, руководящие покаянием[254].
Церковного покаяния «испрашивают» и «удостаиваются». Христианин, совершивший тяжкий грех или, тем более, «отпадший», то есть либо принесший жертву римским богам, либо не совершавший жертвоприношения, но получивший удостоверяющий его документ, просит у епископа позволения стать кающимся; иногда его побуждает к этому священник, знающий, что он согрешил[255]. В ответ на прошение грешника епископ «удостаивает» его покаяния, которое, таким образом, является в основе своей не столько назначаемым наказанием, сколько средством, возможность прибегнуть к которому детально регламентируется, как и его последующее использование. Покаяние начинается с ритуала, в который входит наложение рук, родственное экзорцизму и имеющее здесь смысл обращения к Господу с мольбой о покаянных испытаниях. Эти испытания длятся долго – месяцы или годы. По их завершении кающийся допускается к примирению {c Богом} в ходе церемонии, которая представляет собой своеобразное повторение начального ритуала: епископ вновь возлагает руки, и с этого момента кающийся вновь допускается к «communicatio» {лат. общение}. Испытания включают в себя аскетические практики (посты, бдения, многочисленные молитвы), добрые дела (подаяние милостыни, помощь больным), а также соблюдение запретов (например, на половые отношения между супругами) и частичного отлучения от общих обрядов (в том числе от причастия)[256]. Однако и после примирения покаявшийся не обретает вновь того статуса, которым он обладал прежде. Он остается в некотором роде отмеченным: ему нельзя становиться священником, занимать государственные должности и практиковать некоторые профессии; кроме того, ему не рекомендуется участвовать в судебных тяжбах[257].






