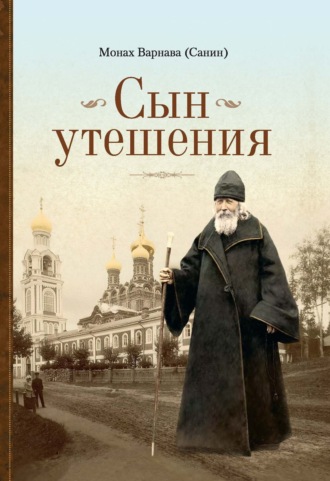
Монах Варнава (Санин)
Сын утешения
© Монах Варнава (Санин), текст, 2023
© Сибирская Благозвонница, макет, 2023
* * *
Книга написана при поддержке Николо-Радовицкого монастыря
Вместо предисловия
В жизни бывает столько случайностей, что если беспристрастно задуматься, то невольно приходишь к убедительному выводу: все случайности на самом деле являются закономерностью, которая называется Промыслом Божиим.
Часть первая
Духовник отец Варнава
Всех с любовью принимал.
Сам он кроткого был нрава,
Скорбь народа понимал.
Игумен Виссарион (Великий-Остапенко)
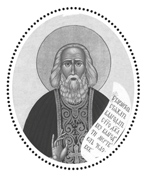
«Старец». Поэма, или повесть в стихах

Перед блокадой Ленинграда
В спасительный и мирный тыл
Из начинавшегося ада
Последний поезд уходил.
Пар поднимая над перроном,
Пыхтел надсадно паровоз.
Звучал приказ: «По эшелонам!»
Жгла щеки боль прощальных слез…
А через весь огромный город
С еще не знавшими людьми,
Что впереди – бомбежки, голод,
Спешила женщина с детьми.
Она шагала все быстрее,
Доверясь чувству одному:
Бежать из города скорее,
Сама не зная почему…
И шла, не слушая советов.
На что надеялась она
Без пропусков и без билетов
В то время, как вокруг война?
Груз – чемодан с тремя узлами.
Точней, с двумя: один, спеша,
Пришлось оставить дома маме,
Чтоб взять на руки малыша.
Потом устала и малышка —
Трехлетняя больная дочь,
И хорошо еще сынишка
Шел сам и даже мог помочь…
Откуда прибавлялась сила?
Она бежала на трамвай
И только старшего просила:
– Не отставай!.. Не отставай!..
Глава 1. Пятьдесят на пятьдесят
Нехорошо подслушивать чужие разговоры. Даже если они касаются тебя лично. Но тут из приоткрытой двери заведующего хирургическим отделением послышалось такое, что я, проходя по коридору мимо, невольно приостановился.
– Завтра две операции, – говорил заведующий. – Первая – ничего сложного. А что касается старшего лейтенанта, здесь, как говорится, пятьдесят на пятьдесят! – Вот тогда подошвы моих больничных тапочек и приросли к полу. – Сама операция не столь опасная – на щитовидке, но сердце несколько месяцев проработало в таком жутком режиме, что у меня нет уверенности, сможет ли оно выдержать до конца. Но мы, конечно, насколько смогли, подкрепили его и, как говорится, будем надеяться на лучшее.
Нужно ли говорить, как я провел ту ночь – может, последнюю в моей жизни… Самым страшным было даже не то, что я могу умереть, а что навечно лишусь своего родного, единственного, неповторимого «я»! Откуда я, представитель третьего поколения людей, из которых выколачивались последние остатки веры предков, мог знать тогда о том, что смерть не конец, а только начало?
Утром в операционной я сразу увидел хирурга[1]. Он стоял у окна, скрестив на груди руки. Улыбаясь, словно нам предстояла приятная беседа, он взглянул на меня.
– Скажите, Георгий Иванович, – каким-то не совсем своим голосом выдавил из себя я. – А это надолго?
– Ерунда, каких-нибудь сорок минут! – нарочито бодрым голосом ответил хирург.
Велев медсестре готовить меня к операции, он зашел за матерчатую перегородку.
– Вас хоть тренировали лежать с запрокинутой навзничь головой? – спросила медсестра.
– Нет, первый раз слышу! – удивился я. – Зачем? Ведь всего каких-то сорок минут!
Медсестра как-то странно взглянула на меня и покачала головой:
– При такой операции под местным наркозом это бы не помешало!
– А почему же тогда не под общим? – спросил я и через силу пошутил: – Что, вам анестези, что ли, жалко?
– Да нет! Анестезии у нас хватает, – не принимая моего тона, серьезно ответила медсестра. – Это для вашей же пользы, чтобы вам случайно не перерезали голосовые связки. И для нашей. А то будут потом жалобы… Письменные, разумеется, потому что разговаривать вы тогда уже не сможете никогда!
Мне хотелось узнать про то, что меня интересовало больше всего: действительно ли все так опасно? Но тут из-за перегородки вышел врач, на этот раз не один, а с женщиной в халате и тоже в хирургических перчатках.
– Начинаем! – деловито сказал он.
– Ой! – спохватилась медсестра. – Я же ему укол не сделала!
– А это еще зачем? – спросил я, подставляя руку.
– Успокаивающее! – ответила медсестра и болезненно простонала: – Его за полчаса делать нужно!.. Хотя для кого-то он только через час действовать начинает!
– Ну? – нетерпеливо спросил врач и, указывая мне пальцем на ярко освещенный электрическими юпитерами стол, уже совсем чужим, командным голосом приказал: – Прошу!
С помощью медсестры я устроился на жестком ложе. Она помогла мне правильно лечь, поставила капельницу. И принялась старательно обрабатывать место, которое предстояло оперировать, йодом. Но тут ее случайно толкнула женщина-хирург, и она, ойкнув, выплеснула на меня едва ли не половину содержимого большого пузыря…
– Всё? – послышалось уже грозное.
– Да!..
Два хирурга встали по сторонам от меня.
И тут началось…
Было 24 июня 1980 года. В стране гремела Олимпиада. Люди жили своей обычной жизнью, слушая по транзисторам последние новости о наших новых спортивных рекордах. Где-то уже раздавались победные гудки машин… А я с запрокинутой навзничь головой и обнаженным горлом лежал на операционном столе под скальпелями, не в силах даже пошевелиться. Правая рука была привязана, очевидно, чтобы я не мешал хирургу. Левая – под капельницей. Ноги – и те были крепко связаны бинтом.
Хирург сделал первый надрез по коже, совсем еще не ощутившей наркоз. Что-то защелкало, затрещало, то тут, то там возникала острая боль. И женщина-хирург, чувствуя это, сразу же делала в это место укол и вводила туда новокаин. Никогда в жизни я не чувствовал еще такой почти непрерывной боли и не находился в таком совершенно беспомощном положении! Ну, прямо как бабочка, приколотая иголкой к стене! Хорошо, что это должно было продлиться каких-нибудь сорок минут – даже чуть меньше школьного урока…
Но не тут-то было!
За перегородкой раздался телефонный звонок.
– Вас! – позвала хирурга медсестра.
– Иду, – отозвался тот, и как и накануне, я стал прислушиваться. А как было поступить иначе, если речь снова шла обо мне!
– Нет, – говорил врач. – Сейчас не могу. На операции! Сколько-сколько… Часа три, не меньше, если только все раньше не кончится… – Тут он, очевидно, сообразил, что я все слышу, и уже громче добавил: – Но мы, как говорится, сделаем все возможное!
«Три часа!» – понял я и обмяк.
Хирург, чтобы видеть, где напрягаются голосовые связки, время от времени задавал мне вопросы, на которые я должен был коротко отвечать «да» или «нет». Потом, чтобы хоть как-то отвлечь меня, принялся задавать мне уже такие вопросы, над которыми я должен был думать. Например, зная, что я военный газетчик, мечтающий стать писателем, он спрашивал меня, в чем разница между корреспондентом и журналистом или между поэзией и прозой.
Это действительно слегка отвлекало. Но ненадолго. Боль становилась все острее и острее. К тому же через час пролитый йод начал печь меня так, словно я лежал на раскаленной сковородке! Голова, запрокинутая в непривычном положении, тоже напоминала о себе. Руками я по-прежнему не мог пошевелить, зато перебирал ногами, которые непонятно каким образом сумел освободить от бинтовых оков…
Наконец настал момент, когда хирург уже всей пятерней полез мне в разверстую шею, стал засовывать пальцы куда-то под яблочко – так делают, когда хотят задушить… Боль, удушье, страх, беспомощность – все это объединилось в одну пиковую точку. «Конец! – вдруг подумалось мне, и мелькнула вялая мысль: – Надо же, как все это, оказывается, просто!»
Но вдруг дало знать о себе желание жить! Жить!! Жить!!! Бежать бы!.. Но – куда?!
Я не знал, как быть, у кого просить помощи. Врачи, разумеется, все равно меня бы не послушали, а медсестра ни за что не стала бы им прекословить. Не было никого на всем белом свете, кто мог бы помочь мне!
И тут… Сам не знаю почему я – совершенно неверующий человек, никогда в жизни даже не задумывавшийся о Боге, уверенно сдававший в военном училище зачеты по научному атеизму, равнодушно, чтобы только заполнить пустое место, ставивший в номер под рубрикой «Религия – опиум для народа» атеистические статьи, регулярно присылавшиеся в редакцию газеты «сверху»… Я, и сам считавший себя убежденным атеистом, – разумеется, по привычке, потому что на самом деле никогда не задумывался о вере! – вдруг мысленно, молча, но, наверное, на всю Вселенную завопил: «Все святые! Помогите мне!!!»
Нет, ничего не произошло. Никто не спешил мне на помощь. По-прежнему продолжалось 24 июня 1980 года. Судя по гудку за окном, кто-то еще из наших, советских, стал олимпийским чемпионом… Но хирург вдруг перестал душить меня.
Время неожиданно свернулось так, что я просто перестал ощущать его. Возможно, прошел час или два… Наконец хирург сказал женщине:
– Зашивайте!
И уже без нарочитости, радостным тоном сказал мне, легонько похлопав по привязанной к столу руке:
– Ну, старший лейтенант, будем жить!
Только мне почему-то вдруг все стало безразлично. То ли устал от переживаний, то ли наконец-то подействовало успокоительное…
Глава 2. «Да» или «нет»?
Авторучка замерла в пальцах начальника военно-врачебной комиссии Хабаровского госпиталя на полпути к ждущему только его решающей подписи документу. Полковник в белом халате с нескрываемой жалостью взглянул на меня. Я только что сказал им, что решил отказаться от дальнейшей воинской службы.
– А может, все-таки передумаете? – спросил он. – Вы прошли, как говорится, все семь кругов ада! Столько перетерпеть и в самом конце – сойти с дистанции? Я понимаю, что теперь вы не сможете служить, как прежде. Поэтому готов пересмотреть ваш вопрос. Мы составим новое медицинское заключение и дадим вам максимальные, какие только можем дать, послабления!
Скучавшие за столом майоры и подполковники, тоже все в белых халатах, согласно закивали, а сидевший справа заместитель, пошептавшись с начальником, сказал:
– Ваша служба будет именоваться «вне строя». Вы будете ходить только в ботиночках – никаких сапог, учений, боевых тревог! Галстук – и то носить не будете, так как у вас была тяжелая операция на передней поверхности шеи!
Все это обрадовало меня. Ведь это совсем не прежня строевая служба! Я уже хотел сказать «да». Но тут какая-то спокойная, но очень уверенная мысль вдруг сказала во мне: «В армии тебе не выжить!» А мне после операции так хотелось жить!
И я, сам мало понимая, что делаю, прошептал:
– Нет…
– Что? – удивился полковник.
– Никак нет, – еще не научившись вновь говорить громким офицерским голосом, тихо повторил я.
– Зря упрямишься! – подал голос сидевший за дальним концом стола тучный майор и зябко передернул плечами. – Такой кормушки от государства лишиться! Ведь мы здесь на всем готовом!
– И потерять военную пенсию, так как вы не выслужили положенного срока! – поддержал его подполковник, сидевший рядом с начальником. – Дотяните хоть до самого минимума!
– Нет! – повторил я, уже почему-то совершенно ясно понимая, что если останусь в армии, то не выживу даже на самых льготных условиях.
– И это при такой завидной для каждого из нас перспективе – целых тринадцать лет выслуги всего в двадцать шесть лет! – добавил еще кто-то, на что я уже только отрицательно покачал головой.
И тогда полковник, который по годам годился мне в отцы, и, быть может, поэтому, заботясь обо мне как о сыне, сделал последнюю попытку уговорить меня.
– Армия без вас обойдется! – жестко сказал он. – А вот сможете ли обойтись без нее вы?
«Да!» – опять подсказала мне та спокойно-уверенная мысль. И я только повторил вслед за ней:
– Да!..
– Ну, тогда, можно уже сказать – старший лейтенант в запасе, пеняйте только на самого себя! Мы, медики и ваши старшие товарищи, как говорится, сделали для вас все, что смогли…
Перо авторучки коснулось листа бумаги, выводя замысловатую подпись.
Глава 3. Восьмой круг ада
Из блестящего офицера, которому завидовали многие сослуживцы, так как присяга была дана мною при поступлении на факультет военной журналистики в семнадцать лет, а после была служба там, где год шел за полтора, я превратился в инвалида 2-й группы с ничтожной (по сравнению с прежней зарплатой – военной, в местности, приравненной к Крайнему Северу) пенсией…
До этого я был обеспечен всем необходимым – от того, что надеть, и вплоть до продуктового спецпайка, куда была включена даже соль. А теперь все это нужно было зарабатывать, добывать. И так как здоровья на это не было, то для меня, прошедшего, как выразился начальник врачебно-военной комиссии, семь кругов ада, начался его восьмой круг.
Сравнение казалось мне подходящим, хотя ни в ад, ни в рай я тогда не верил. Конечно же, и полковник не придавал своим словам религиозного смысла. Тем более не относил я это выражение к тем кругам ада, которые описал в своей «Божественной комедии» Данте. А просто относился к нему как к удачной аналогии с теми жизненными невзгодами, которые меня ждали теперь. О Боге я по-прежнему так и не задумывался. Иногда, видя храм или едущих на церковную службу старушек, я вдруг вспоминал, как воззвал ко всем святым во время операции, и сам себе удивлялся, даже посмеивался над собою.
Правда, поводов для смеха становилось у меня все меньше. Произошел рецидив болезни, и начались сердечные приступы. Врачи «Скорой» сначала увозили меня в реанимацию, потом в кардиологию на лечение, но так как ничто не помогало, а приступы проходили сами по себе, то бригада просто уезжала, оставляя меня наедине с моим выпрыгивающим из груди сердцем в надежде, что и на этот раз мне удастся выжить… В такие моменты я больше всего на свете хотел жить и панически боялся смерти, точнее, я страшился уйти в полное черное небытие, навсегда забыть свое «я»…
Но очередной приступ проходил, и вновь нужно было думать, как жить дальше. Шли годы. Города и редакции сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой. Я работал то штатным, то нештатным корреспондентом, но мечта стать писателем так и не оставляла меня. Вышедшая в толстом журнале повесть на армейскую тему, благодаря которой я автоматически становился литератором, не удовлетворила меня. Хотелось книги – именно книги, своей! – пусть самой тонкой, пускай минимальным тиражом!
Стихи и армейская проза особым спросом у читателей не пользовались. Других тем я не знал. Однако с детства благодаря стараниям мамы любил историю. Не зря говорят, что хобби выше профессии. С живым интересом изучив до тонкостей античность, я написал исторический роман-дилогию, с намерением сделать его в дальнейшем трилогией, и несколько повестей о римских императорах. Теперь не тоненькая книжечка, а толстый роман лежал передо мною. И издан он был тиражом в сто тысяч экземпляров – так же, как и первые повести!
Передо мной вновь открылись блестящие перспективы. Появились большие, даже огромные по тем временам деньги, а также возможность переиздать роман за рубежом, жить за границей… Один преуспевающий бизнесмен, который зарабатывал на том, что под видом горбыля переправлял за границу первоклассную древесину (потом он уехал в Америку), предложил стать его компаньоном. Другой начинающий коммерсант обещал, что я заработаю целое состояние на перепродаже крупной партии импортных сигарет «Мальборо». Третий, став «новым русским» и тут же решив заняться кинематографом, заказал сценарии художественных фильмов из времен античности на неприличные для слуха порядочного человека темы…
Все эти предложения (кроме сценариев скабрезных фильмов) звучали очень заманчиво. И я даже начинал двигаться по этому пути – обговаривались детали, я начинал что-то делать. Но каким-то совершенно непонятным образом в последний момент или все рушилось, или вновь в моей голове начинала звучать уже знакомая мне спокойно-уверенная мысль, подсказывавшая, что делать этого не следует, да так властно, что ей невозможно было противиться.
Словно что-то отводило меня от всех этих дел, как, впрочем, быстро увело и от больших денег. Они просто сгорели в огне первых лет перестройки. Да и писать третью книгу трилогии и намеченные повести об остальных императорах я уже не хотел, не мог…
Все дело было в том, что буквально на следующий день после окончания своего романа я… крестился. До этого несколько лет меня уговаривали, упрашивали, но куда там! Даже слышать о том не хотел! Говорил: и некогда, да и незачем… А тут, в свой день рождения, сам не сознавая, что делаю себе самый лучший подарок в жизни, я – ноги словно сами повели меня – пошел в храм. Точнее, в Троицкий собор города Подольска. На следующий день во время проповеди игумен Петр, крестивший меня, сказал:
– Ну вот, уже и писатели пошли креститься!
Время-то еще было не совсем открытое для веры. Только год назад страна скромно отметила величайшую в своей истории дату – тысячелетие Крещения Руси…
Обязательность – черта, унаследованная мною от отца, – заставляла меня ежедневно вычитывать утреннее и вечернее правило, ходить в храм. На службах мне мешала теснота и мнимая, как выяснилось впоследствии, духота. Да и ощущение возникало, что все это только потеря времени… На что та уверенно-спокойная мысль отвечала: «Нет, так надо…» – и помогала мне оставаться в храме. Сердце поначалу позволяло стоять всего по пять, потом по десять, затем по пятнадцать минут. Но впоследствии я стал выдерживать и всю службу до конца.
Кроме этого, почему-то появилась потребность читать молитву преподобному Сергию Радонежскому. Молитва эта – длинная, несколько раз я хотел оставить ее, но все та же мысль, противиться которой я почему-то не мог, не давала мне этого сделать… И я читал ее – да не раз, а по три раза каждый день! Сначала по молитвослову, потом наизусть…
Теперь с живым интересом я мог читать только книги на духовные темы. И так как не быть писателем я уже не мог, появилось желание написать большой исторический роман о жизни самых первых христиан, ни много ни мало о самих первоверховных апостолах Петре и Павле! Особенно интересовал меня Павел, точнее, его длительные путешествия, которые давали большой простор для книги.
Почему-то сердце мое сразу расположил спутник апостола Павла в его первом путешествии – апостол Варнава. Именно он в свое время привел поверившего во Христа Павла к апостолам в Иерусалим. Это было видно даже из весьма скупых данных тех книг, которые имелись в моем распоряжении. А какова была сила его веры! Меня просто потрясло то, что он, продав оставшееся ему в наследство от родителей богатое имение, все деньги до единой лепты положил к ногам апостолов. (Ну как тут не вспомнить одобренный самим Христом поступок бедной вдовы, которая отдала Богу две свои последние лепты?) Как можно отдать все, ничего себе не оставив, – я тогда никак не мог понять…
А жизнь тем временем продолжалась. Сердечные приступы время от времени приходили вновь, правда, страх от них уже не был паническим. Я начинал верить в то, что не уйду навсегда, и знакомая уверенно-спокойная мысль, утешая меня, подтверждала: «Да, это действительно так!»
Снова замелькали разные города, куда я переезжал с тяжелой сумкой, в которой была моя неразлучная спутница – портативная печатная машинка… Словно кто-то вел меня по жизненному пути. Порой я даже удивлялся некоторым обстоятельствам и совпадениям, которые были самыми настоящими чудесами. Ища пристанища, хотя бы временного места для работы над задуманной книгой, я шел, ехал и одновременно размышлял о путешествиях главных героев по древним городам и царствам, словно в каком-то забытье…
И вдруг словно очнулся, обнаружив себя в небольшом, но необычайно красивом заснеженном городке Выкса, где в созвучии со своими рабочими мыслями вдруг совершенно неожиданно услышал уже ставшее мне родным имя Варнава…
«Старец». Поэма, или повесть в стихах (продолжение)
Трамвай промчался с трелью звонкой
Как раз у ближнего угла.
«А в этом доме я девчонкой, —
Вдруг вспомнила она, – жила!..»
И – словно яркий луч мгновенно
Ей память высветил до дна:
Да так, что прямо через стены
Даль детства сделалась видна!
Снег… смех… Рождественская елка…
Повсюду дамы, господа…
И – маски зайцев, белок, волка,
Совсем не страшного тогда!
На елках людям не до страха —
Всем было весело!.. Но тут
Отец с почтеньем ввел монаха,
Как тот сказал – на пять минут.
Взгляд – словно с ангельского лика
(Знать, так душа была чиста).
Он всех от мала до велика
Поздравил с Рождеством Христа.
Затих смущенно шум веселья,
И только слышалось вокруг:
«Смотри, монах!» «Да что здесь – келья?»
«Это же Старец!» «Как – сам, вдруг?!»
«Кто он такой, скажите, право, —
Я тут случайно приглашен!»
«Отец-утешитель Варнава!»
«И чем же утешает он?»
«Всем – и молитвой, и советом,
Как среди мира жить сего,
На жизненный вопрос – ответом.
Да разве перечесть всего?»
«Сам государь к нему недавно
В скит Гефсиманский приходил!
А уж народ туда подавно
Давно дорогу проторил!»
Все гости с радостью немалой
Взирали в трепете святом
На старца в рясе обветшалой,
С наперсным золотым крестом.
А тот – спеша, как обещался,
Покинуть вскоре этот зал,
Людей благословлял, прощался
И каждому совет давал.
Седой, уставший от дороги
И долгих многотрудных лет,
С трудом передвигал он ноги,
Хотя в глазах был бодрый свет.
Так он дошел до елки самой,
Теснимый множеством людей,
И оказался рядом с мамой,
А после мамы – перед ней.
Она была тогда «снежинкой»,
И батюшки Варнавы взгляд
С веселой, радостной лучинкой
Одобрил тот ее наряд.
Но тут же старец стал серьезным,
Как будто вдруг увидел то,
Что показалось ему грозным
И больше не видал никто.
Он поднял голову и ясно
Сказал, чтоб слышно было всем:
«Мы думаем, что все прекрасно
И правильно, а между тем
Грядут великие лишенья
И поругания святынь:
Повсюду скорби, кровь, мученья,
Куда лишь только взор ни кинь!..
Но – жив Господь! Когда уж станет
Терпеть совсем невмоготу,
Народ как ото сна воспрянет
И возвратится ко Христу!
В конце духовной этой драмы,
Хотя и не на много лет,
Восстанут из развалин храмы —
Перед концом придет рассвет!»
Сказал все это он, оставив
В недоумении гостей,
И, белый бантик ей поправив,
Стал обращаться только к ней.
«Когда найдет на город ночка
Средь бела дня, – он ей сказал, —
То, не раздумывая, дочка,
Беги скорее на вокзал!»
«Какой вокзал? – она спросила. —
И разве днем бывает ночь?»
«Да, здесь пойдет на силу – сила.
Но ты беги отсюда прочь!
Спасешь себя и своих деток!» —
Он с лаской на нее взглянул
И, улыбнувшись, напоследок
Тихонько на ухо шепнул:
«Ты вырастешь и все припомнишь…
И как случится что в судьбе,
Скорей зови меня на помощь,
Я буду помогать тебе!»
Она смотрела с удивленьем,
Не понимая ничего,
С обычным детским нетерпеньем —
Ведь было ей лет пять всего…
Да-да, тогда ей точно было
Немногим более пяти.
А надо ж – правда, не забыла,
Само вдруг вспомнилось в пути!




