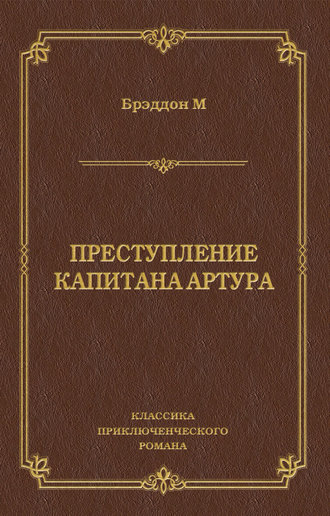
Мэри Элизабет Брэддон
Преступление капитана Артура
Глава XXVIII
Сила против права
Остаток вечера леди Лисль провела одна в своей гостиной, привалившись к кушетке, стоявшей у камина; она о чем-то думала, устремив на огонь блестящие глаза. Позолоченные часы, стоявшие на столике, били уже много раз, а Оливия Лисль не отрывалась от своих грустных дум.
Майор с баронетом уехали в Чичестер еще до обеда, и их ждали только к ночи. Оливия очень редко интересовалась действиями своего мужа, но на этот раз она осведомилась, куда он отправился и когда возвратится. Прекрасные часы со звоном пробили одиннадцать, двенадцать, час, полчаса второго, три четверти второго – Оливия терпеливо и со спокойным лицом ждала возвращения запоздавшего мужа. С последним ударом трех четвертей второго послышался стук подъезжавшего экипажа, который вскоре стих под окнами гостиной.
«Это правит майор, – подумала Оливия, – а тот презренный трус боится править ночью».
В передней раздались голоса сэра Руперта и майора Варнея. Первый говорил очень громко, но довольно невнятно и мог только с трудом отворить дверь гостиной. Сильно пошатываясь, дошел он до дивана, бросился на него и разразился оглушительным смехом.
– А ведь мы провели сегодня славный вечер?… Что скажешь, старый друг? – обратился он к майору, откинув назад голову и повернув к нему обрюзглое лицо, вполовину закрытое нависшими на лоб жидкими волосами.
– Дорогой мой Руперт, разве вы не видите леди Лисль? – проговорил майор тоном упрека.
– Как?! Она здесь?! – воскликнул молодой человек. – Нет, я ее не вижу и не нуждаюсь видеть… Будь она проклята!.. Очень мне нужно видеть это бледное лицо с надменными глазами и мрачным выражением!.. Я научу ее, как со мною обходиться! Я покажу ей, кто я! И будь я проклят Богом, если я ей поддамся!
Гордясь своим нахальством, этот презренный трус сжал грозно кулаки и взглянул на жену с торжествующим видом.
Леди Лисль встала с места и, выпрямив свой стройный, величественный стан, подошла смело к мужу.
– Предположим, что я знаю, кто вы такой, – сказала она сухо.
Майор стоял в дверях, снимая свои палевые красивые перчатки; при возгласе Оливии он прикрыл быстро дверь и прислонился к ней.
– Предположите же, что я знаю, кто вы, – проговорила Оливия. – Предположите, кстати, что я, к величайшему личному стыду и унижению, знаю не только вас, но и все ваше прошлое!
Ноздри и верхняя губа ее дрожали от волнения, да и все тело ее трепетало так сильно, что она была вынуждена опереться на стол.
– Драгоценнейшая леди Лисль, – начал майор Варней с каким-то напряженным выражением лица, – я положительно не ожидал от вас подобной вспышки; нельзя было подумать, чтобы вы, с вашим умом, были способны вызвать такое объяснение.
– Я говорю вам прямо, – сказала леди Лисль громким и ясным голосом, – что мне вполне известен этот подлый обман, известна и та роль, которую играли и вы, майор Варней… Но взгляните сюда! – закричала она, задыхаясь от гнева. – Взгляните же на этого бессмысленного пьяницу, который стоит нравственно ниже всякой собаки! О боже, боже праведный!.. Как я была глупа, если могла позволить себе пойти с ним под венец.
Она нервно рассмеялась и взглянула на мужа с безграничным презрением.
Майор спокойно вытащил ключ из замка, опустил его в карман и подошел к Оливии.
– Леди Лисль, – сказал он, стараясь схватить ее руки, – выслушайте меня.
Она с отвращением отняла свои руки.
– Леди Лисль! – повторила она с живым негодованием. – Как вы смеете, лицемер, как вы смеете называть меня и теперь ложным именем, которое не принадлежало мне ни на единый час, ни на одну минуту?!. О, глупая я женщина! – воскликнула она с тоской, заменившей минутную запальчивость. – Как могла я забыться до того, чтобы продать свою душу за роскошь и титул, чтобы пожертвовать честным и благородным сердцем, и для кого, вдобавок?!. Для того, кто присвоил себе чужое имя и чванится чужим, украденным богатством!
Сэр Руперт Лисль смотрел испуганно на жену. Откинув с влажных глаз растрепанные волосы, он вышел как-то сразу из своего оцепенения и сделался по-прежнему задорным и нахальным.
– Она, вероятно, говорила сегодня с этой дьявольской женщиной, что лежит наверху, – обернулся он к майору, – и та сказала ей…
– Она сказала мне положительно все, – перебила Оливия. – Ваша мать сообщила мне очень верные сведения о том, кого считают сэром Рупертом Лислем.
Майор пожал плечами и насмешливо улыбнулся.
– Я повторяю вам еще раз, леди Лисль, – сказал он ей спокойно, – что вы последняя особа, от которой я мог бы ожидать таких слов. Сядем, – добавил он, подвигая ей кресло, – и постараемся обсудить хладнокровно, что это означает.
Оливия была так слаба и расстроена, что была не в состоянии отклонить предложение и опустилась в кресло.
– Итак, постараемся разобрать это дело, – продолжал майор. – Вы имели неосторожность увлечься желанием навестить несчастную больную!
– Да, – ответила она глухо.
– Ну и эта несчастная, которая уже несколько дней страдает, очевидно, потерей рассудка – что известно, конечно, не мне одному, – рассказала вам свои галлюцинации.
– Я инстинктивно чувствую, что она сообщила мне только голую истину! – возразила Оливия, не спуская с майора своих блестящих глаз. – Верьте, что я от души желала бы быть убежденной в противном!
– А! Вы чувствуете, что она говорила вам правду! – пробормотал майор. – Позвольте же спросить: чем она доказала вам правдивость своих слов?
– Ничем осязательным.
– Ничем осязательным? – переспросил майор с лучезарной улыбкой. – Так она не дала вам никаких доказательств?… Нет? – воскликнул он вдруг, возвысив слегка голос. – О, я знаю, что нет!.. Она, конечно, говорила вам, что у нее есть сын, которого какая-то знатная дама вдруг признала за собственного!.. Ну, одним словом, она рассказала такую неслыханную басню, какую не придумать и любому писателю.
– Она мне сообщила, какое участие принимали вы в этой адской проделке: вы начали ее и вы же довели ее искусно до конца, если не непосредственно, то с помощью орудия.
– Дорогая леди Лисль, – начал снова майор, нисколько не смущавшийся обвинениями Оливии, – я обращаюсь к вашему уму или рассудку: пусть он один руководит в этом случае вами – и тогда мы скорее сговоримся друг с другом! Неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы избрать в поверенные эту Рахиль Арнольд, если б когда-либо задумал подобную интригу? Неужели я доверился бы этой слабой, вечно болезненной и полоумной женщине, которой бы могла не сегодня, так завтра прийти мысль изменить мне? Ну возможно ли это? Правдоподобно ли это?… Великие боги, неужели я способен сделать такую глупость?!
– Она говорила очень несвязно; но все же я могу понять из ее слов, что она подслушала какой-то разговор между вами и ее мужем, – заметила Оливия.
– Леди Лисль, мне досадно, что вы так встревожились – и вдобавок напрасно, – сказал майор торжественно. – Вы слушали просто бред помешанной женщины, галлюцинации которой нетрудно объяснить, если только припомнить, что у нее был сын одних лет с сэром Рупертом, и вдобавок похожий с ним. Не допускайте же, чтобы такая особа могла влиять на вас, да еще в такой степени, чтобы вы даже решились сказать вашему мужу, что он вовсе не тот, кем он был и останется, – и обвинять меня в подлоге и обмане. Предположим, что ваш собственный интерес потребовал бы, чтобы мы добились доказательств от Рахили Арнольд – чего быть не может, потому что вы сделались бы предметом насмешек всего графства, как женщина, продавшая себя за титул и богатства и открывшая после, что она вышла замуж за нищего бродягу… но если б, говорю я, потребовались факты, какое же доказательство представили бы вы?
Оливия молчала.
– Вы теперь говорите, что ваш муж самозванец, подложный баронет, а настоящий Лисль живет где-то вдали… смею спросить вас где?
– Я этого не знаю!
– Я это предугадывал! – проговорил майор. – Это не в вашей власти!
– Пожалуй, что и так! – подтвердила Оливия.
– Прекрасно! А могу я спросить у вас еще, когда миссис Арнольд видела сэра Руперта?
– Лет пятнадцать назад, когда его взяли из больницы домой.
– Пятнадцать лет назад, – повторил майор, – это целая вечность, дорогая леди Лисль!.. Но мы, к счастью, можем опровергнуть это неосновательное обвинение Рахили Арнольд, признанной пользующим ее доктором безусловно помешанною, и письменным показанием ее мужа, Жильберта Арнольда, подписанным им в присутствии нотариуса баронета.
– Да поможет мне небо! – воскликнула Оливия, сложив тоскливо руки. – Но я чувствую инстинктивно, что эта женщина сообщила мне правду.
– Ваш инстинкт будет вам весьма плохой поддержкой перед лицом закона, милая леди Лисль, – возразил майор. – Мы вас не боимся… не так ли, милый Руперт? Мы не боимся также и Рахили Арнольд. На свете существует только одна особа, которой сэр Руперт должен слегка бояться, а эта особа – майор Гранвиль Варней.
При последних словах майор слегка ударил рукой по жилету в том месте, где лежал известный порт-папье, и стальная цепочка, посредством которой он был прикреплен к поясу, издала легкий звон.
– Да поможет мне Бог и научит меня, как поступить в моем несчастном положении, – сказала леди Лисль.
– Я советую вам лучше оставить все как есть, чем начинать вполне бесполезный скандал, который только сделает вас предметом сострадания – в качестве честолюбивой женщины, обманутой сыном бродяги-браконьера; это будет еще ужаснее «Лионской дамы».
С тоской и отчаянием ушла Оливия в свою комнату, чтобы обдумать все происшествия этого дня.
Утром другого дня леди Лисль увидела, проходя через переднюю, двух человек, прохаживавшихся перед главным подъездом.
– Кого вы ожидаете? – спросила она одного из них, здорового, широкоплечего малого, шея которого была обмотана красным бумажным платком.
– Мы ожидаем одну особу, которую должны перевезти в приют, но она долго не идет.
– Приют?… Какой приют? – изумилась Оливия.
– Приют для умалишенных.
Прежде чем леди Лисль могла предложить еще один вопрос, в переднюю вошла Рахиль Арнольд, поддерживаемая сиделкой и еще другой женщиной с грубым выражением лица, присланной из дома умалишенных, чтобы перевезти больную. Несчастная Рахиль была бледна, как мертвая, и дрожала всем телом.
– О миледи… миледи! – воскликнула она. – Не позволяйте им увезти меня от вас, я ведь не сумасшедшая… право, не сумасшедшая! То, что я вам сказала, – безусловно правдиво до единого слова!
– Это доказывает, леди Лисль, – раздался вдруг голос майора, появившегося в дверях библиотеки, – что пора запереть в четырех стенах людей, которые сделались жертвами галлюцинаций; иначе они могут оказать очень вредное влияние на других – даже развитых личностей, так что эти последние сойдут в конце концов, как и они, с ума. Не позабудьте, леди, что самый громкий титул не заграждает входа в дом умалишенных!
Женщина с грубым лицом и один из незнакомцев потащили Рахиль. Но, дойдя до порога, Рахиль остановилась и, протянув свою исхудалую руку, воскликнула торжественно:
– Призываю проклятие на весь этот дом и на живущих в нем!
Глава XXIX
Бедный Ричард
Снег давно уже растаял на улицах Бельминстера. Крокусы в саду мистера Геварда заменились великолепными нарциссами и душистыми жонкилями; скромные фиалочки прятались в тени кустов, а Бланш Гевард проводила все свое время за исполнением принятых ею обязанностей. Прекрасный викарий был все так же печален и ревностен к делу; добродушный ректор по-прежнему боролся с грехами и недостатками своей паствы, между тем как Ричард Саундерс занимал должность директора новоустроенной народной школы. В один прекрасный майский день он сидел посреди своих беспокойных учеников, терпеливо объясняя им какой-то урок. Как он ни неутомим, как ни любим учениками, но посторонний наблюдатель понял бы с первого же взгляда, что он неуместен в этом простом училище. Голубые глаза его выражают смесь страдания, но вместе и добродушия; в манерах его проглядывает что-то нервное, ненормальное, свидетельствующее, что дух его стремится к высшей деятельности. Но что бы он ни думал и ни чувствовал – он превосходно выполняет свой долг, и дети преданы ему от всей души, что доказывается ими различными способами. Они приносят ему прекрасные букеты из своих садов – встают еще до зари, чтобы украсить классную этими же букетами; они идут за несколько миль, чтобы достать ему книгу, в которой он нуждается, так как им известно, что он много занимается науками, они смотрят на него удивленными взорами и разинув рот, когда он сидит, наклонившись над каким-нибудь толстым томом, взятым им у какого-нибудь из окрестных пасторов.
В его маленькой гостиной стоит этажерка, нагруженная книгами, купленными им на карманные деньги, когда ежегодные взносы за него дяди давали ему полную возможность удовлетворять свое влечение к науке.
В этот день он как-то особенно молчалив и серьезен; он почти вовсе не разговаривает с учениками, отсылая их домой, так что старшие из них уходят с унылым видом и говорят друг другу, что с учителем, наверное, случилось что-нибудь неприятное. Оставшись наедине с собою, Ричард погрузился всецело в размышления. Глаза его устремлены на открытое окно, в которое ему видна идущая вдоль красивого плетня тропинка, по которой Бланш вела его осенью в народное училище.
«Придет ли она? – спрашивает он себя. – Она обещала принести мне последнее издание Квэтерлея, как только принесет его из библиотеки. Она так добра и так неутомима, что непременно сдержит данное обещание! О да, я убежден, что она его сдержит!»
Эта мысль, очевидно, успокоила Ричарда. Он взял с полки книгу и начал читать ее, посматривая все-таки изредка на тропинку.
«Если она принесет мне „Обозрение”, не докажет ли это, что она интересуется мною? Впрочем, она сделает то же самое для беднейшего жителя Бельминстера, если только у него есть охота к чтению. В ней так мало общего с другими девушками, что нужно быть бессмысленным и отчаянным фатом, чтобы видеть в ее действиях признаки предпочтения».
Он снова опечалился и встал, чтобы пройтись несколько раз по комнате.
Ричард не был красавцем, но в лице его было что-то нежное, симпатичное, делавшее его в самом деле привлекательным. Он одевался просто, но выглядел джентльменом. Пока он ходил из угла в угол по комнате, у окна показалось хорошенькое личико, и нежный голосок произнес очень весело:
– А! Ричард, как вы нетерпеливы! Вы ходите тут с видом голодного льва, ожидающего обеда; а ведь я опоздала немного с «Обозрением». Мне очень досадно, что я вынуждена назвать эту книгу чрезвычайно скучной: я не могла прочесть больше шести страниц… Можно ли войти к вам?
– Да, если вам угодно! – ответил с легким трепетом молодой человек.
– Благодарю, – сказала с ясной улыбкой Бланш, – я имею к вам множество поручений от моего отца да и, кроме того, хочу сказать вам многое! Итак, я зайду к вам на целых полчаса.
Молодой человек бросился открыть дверь, и девушка, войдя в классную, села прямо на кафедру. В течение четверти часа она говорила о разных разностях, давала поручения, просила собрать сведения относительно родителей его учеников и т. д. Но Ричард хранил глубокое молчание. Опершись на подоконник, он перебирал своей нежной рукой часовую цепочку. Бланш заметила его рассеянность и проговорила, наконец, с нетерпением:
– Но, Ричард Саундерс, да вы вовсе не слушаете. Я уверена, что вы не слышали ни слова из всего мною сказанного.
– Это верно, мисс Гевард! – отвечал он ей с внезапным увлечением. – Я прислушиваюсь только к вашему голосу… который кажется мне мелодичнее музыки и туманит мне голову.
– Ричард! – сказала Бланш укоризненным тоном.
– Да, да, – отвечал он с горькой улыбкой, – говорите, что я совершенно забылся, что ваша доброта сделала меня дерзким. Идите к отцу, Бланш, и скажите ему, что он принял участие в недостойном его, так как человек, осыпанный его благодеяниями, благодарит его только тем, что осмелился полюбить его дочь.
– Ричард!.. Ричард!.. – воскликнула она с безотчетной тоской.
– И вы не упрекаете меня за дерзость, мисс Гевард?
– Нет, Ричард. Что же дерзкого в том, что вы мне сказали? Разве вы мне не равны по понятиям и чувствам, так же, как, вероятно, и по рождению вашему?
– Как?! – воскликнул Ричард – бледное лицо его озарилось лучом надежды и блаженства. – Обдумали ли вы то, что сейчас сказали?… Вероятно ли это?… Неужели вы выслушаете меня и мою искреннюю, задушевную исповедь?
– Нет, – сказала она спокойно и решительно. – О Ричард, Ричард! Зачем такая мысль забрела в вашу голову? Зачем не удовольствовались вы одной только наукой, которая давала вам столько светлых минут?… Да знаете ли вы, как тяжело любить… и любить безнадежно?… Вы еще не испытывали, каково думать вечно о том, который вас никогда и не вспомнит?… О Ричард, вы дитя, и я говорю с вами, как стала бы, конечно, говорить с младшим братом: советую же вам выкинуть эту мысль из вашей головы.
Она проговорила эти слова с необыкновенным воодушевлением; серые глаза ее разгорелись, и лицо покрылось пылающим румянцем.
– Так, значит, нет надежды?… Нет никакой надежды! Говорите же, Бланш!.. Вспомните, что вы сами называли меня только сейчас ребенком; настоящее мое положение – положение временное: я готовлюсь в коллегию… Я сделаюсь ректором… И буду равен вам, а тогда… Тогда, Бланш, можно ли мне надеяться?
– Нет, Ричард, никогда!
Тихая грусть, отразившаяся на ее лице, лучше всяких слов могла доказать, даже самому упрямому влюбленному, что дело его проиграно. Ричард Саундерс отвернулся. В это время в дверях показался внезапно бельминстерский викарий.
– Могу ли я войти? – спросил спокойно Вальтер и тут же, не дожидаясь ответа на свой вопрос, переступил порог. – Добрый вечер, мисс Гевард! Ричард, как вы себя чувствуете?
Положив руку на плечо молодого человека, он заметил, что все тело его судорожно вздрагивает.
– Что это, Ричард?!. Ричард, да что же с вами? – произнес он тревожно.
– Вы были так добры ко мне, мистер Вальтер Реморден! Я доверился вам, как старшему брату, – ответил ему мягко молодой человек. – Вы знаете давно, как я люблю ее… Простит ли она мне, что я сказал вам то, что сказал сейчас ей?
– Да… По всей вероятности! – ответил Реморден.
– Она запретила мне дожидаться взаимности как в настоящем, так и в будущем… Да хранит ее небо! Даже ангел не мог бы ответить мне иначе, но она тем не менее разбила мое сердце!
Викарий не мог видеть лица молодой девушки: она закрыла его дрожащими руками.
– Вы оба очень милые, но наивные дети! – сказал ласково Вальтер. – Не слишком ли опрометчиво подобное решение? Вы мне кажетесь созданными нарочно друг для друга, и я ожидал совсем иной развязки… Мисс Гевард, дайте руку… Как она холодна, эта бедная, маленькая, деликатная ручка!.. Сядем сюда, к окну; я расскажу вам повесть любви, конец которой чрезвычайно грустен, но которая может послужить вам уроком.
Глава XXX
Рассказ викария
– Всеми признано, – начал Реморден, сев спиной к окну, так что лицо его оставалось в тени, – что нелегко живется человеку, сделавшемуся игрушкой безнадежной любви, а в особенности обманутому любимой им женщиной. Как бы то ни было, но признаюсь вам, что я сам нахожусь в числе людей, обманутых таким плачевным образом.
Бланш вздрогнула, услышав это признание, но ни она, ни Ричард не возвысили голоса.
– До этого вечера я никогда не упоминал об этой неблагодарной, – продолжал Вальтер Реморден. – Я нес покорно крест, стараясь исполнять добросовестно долг; но когда я увидел этого бедного молодого человека оплакивающим свою надежду и свои разбитые мечты, я подумал, что утешу его лучше всего, если расскажу ему, как были уничтожены и надежды другого, оставив по себе одно только отчаяние.
Бланш пристально смотрела на лицо Ремордена, но голова Ричарда опустилась к конторке, за которой он писал обыкновенно.
– Несколько лет назад, – продолжал Реморден, – я привязался к девушке, которую считал образцом совершенства; теперь я уже знаю, что и она была не чужда недостатков. Помню ее высокомерие, презрение, с которым она отзывалась о слабостях других, ее честолюбивые блестящие мечты, которые шли бы гораздо больше предприимчивому мужчине. Но помимо этого она обладала таким благородным, смелым сердцем, таким ясным умом, отвергавшим все низкое и грязное, что я еще теперь считаю ее выше большинства наших женщин. Только Богу известно, как я ее любил! Я знал, что и она любила меня… В особенности ясно выказала она мне глубину своей любви за несколько недель до венчания с другим!
– Она любила вас и вышла за другого?! – воскликнула Бланш.
– Да. Мы были друзьями почти с самого детства; ее отец был чрезвычайно расположен ко мне, и под его-то кровлей я провел все счастливые минуты моей жизни. Ей только что исполнилось семнадцать лет, когда мне пришлось выехать на время из пастората; мы расстались без клятв, но между нами было заранее условлено, что мы обвенчаемся по моем возвращении; я верил в ее честность, я был так убежден в искренности ее любви, что мне положительно не могла прийти мысль связать ее торжественным, клятвенным обещанием. Разве я мог подумать, что она в состоянии желать разбить мне душу? Я смотрел на нее как на второе я!
Я пробыл в отсутствии три года, – продолжал викарий. – Мы и не переписывались в это долгое время, потому что отцу ее не было ею сказано ни единого слова; но я получал сведения о ней через людей, которые виделись часто с нею. В течение этого трехлетнего отсутствия я чувствовал себя совершенно счастливым. Если я верил ей, то понятно, что я считал свою женитьбу едва ли не вполне свершившимся фактом. Быть может, Богу было угодно наказать меня за то, что я осмелился себе создать кумира из земного создания! Моя любовь, быть может, была тяжким грехом. Я был страшно наказан!
Вальтер остановился, как будто обессиленный невыносимой тяжестью этих воспоминаний. Никто не прерывал его; переломив себя, Реморден продолжал:
– Я работал неутомимо – сколько из чувства долга, столько и из желания удостоиться повышения и сделать ей угодное; я постоянно ходил всюду пешком, не желая расходовать небольшие сбережения на экипаж и лошадь и думая о том, как бы лучше обставить дом к блаженному дню предстоящего брака. Я не выдержал этого тяжелого труда и заболел опасно от истощения сил. Во время моей долгой, мучительной болезни, когда я лежал унылый и печальный у честного крестьянина, заботливо ухаживавшего все время за мной, я узнал случайно, что она обручилась с богатым человеком, имение которого граничило со скромным домом ее отца.
Голос викария прервался от волнения. Бланш подошла к нему и протянула ему свою бледную руку.
– Вы сочувствуете моему положению, Бланш, – сказал кротко викарий. – Я знаю хорошо, что вы простили мне мои грустные взгляды, мою необщительность, мое равнодушие ко всем молодым девушкам, даже вполне достойным любви и уважения! Удар был страшен, и он ошеломил меня на некоторое время; когда я опомнился, то долго сомневался в достоверности слуха, спрашивая себя: может ли быть, чтобы женщина, так горячо любимая, решилась променять мою любовь на золото?
– Но у ней не было сердца! – воскликнула мисс Гевард.
– Остановитесь, Бланш! Не судите ее! Мне больно это слышать, Господь знает, что я давно простил ей, бедной, разбившей добровольно свою светлую молодость! Как только я оправился и встал, меня охватило сильное нетерпение ехать; я чувствовал, что должен во что бы то ни стало лично удостовериться в справедливости сказанного. Превосходная жена ректора моей родной деревни приютила меня у себя с большой радостью, больного и разбитого физически и нравственно, – и я очутился в двухмильном расстоянии от той, с которой думал соединиться вечно неразрывными узами!
– И вы ее увидели? – спросила его Бланш.
– Да, один только раз. Но короткого свидания было вполне достаточно, чтобы убедить меня, что ее заставляет вступить в брак честолюбие… Что чувства ее вовсе не изменились, но она не могла побороть искушения громадного богатства. Бедняжка! Она выросла и жила всегда в бедности, а что может быть хуже для девушки известного, знаменитого рода и гордой по природе, как томления бедности? В то время я, конечно, не сознавал еще этой печальной истины, но понял ее позже… Я увидел тогда не только ее, но даже и ее суженого.
– А он… – начала Бланш.
– О, Бланш, не спрашивайте лучше об этом человеке! Только при виде его я и почувствовал вполне горечь ее измены. Чем внимательнее я всматривался в это грубое, наглое, безмозглое создание, которому она отдавала себя, тем более ужасался. Это был человек очень знатный, но, боже мой! Я даже сомневаюсь, чтобы во всех его поместьях и владениях был хоть один человек с такой антипатичной и пошлой наружностью и с такими манерами, которыми отличался этот знатный богач!
– Но он все-таки джентльмен? – спросила мисс Гевард.
– По рождению – да; он, впрочем, находился во время своей молодости в исключительных обстоятельствах, которые и могут послужить извинением его грубому обращению и полной неразвитости. Сердце мое буквально обливалось кровью, когда я в него всматривался и рассуждал, что счастье любимой мною женщины зависит от такого жалкого существа; с этих пор я и не слышал о ней уже ничего, так как я избегал упоминать о ней в моих письмах к знакомым, да и знавшие мои чувства или, по крайней мере, угадавшие их не желали, естественно, расстраивать меня. Господь ведает, что с ней сталось? А я не могу вспомнить о ней без жгучей боли, потому что я лично не доверил бы добровольно даже собаку сэру Руперту Лислю!
В продолжение всего рассказа Ремордена Ричард не поднимал головы от конторки, но при имени баронета он поднялся стремительно, бледный как смерть.
– Сэр Руперт Лисль?! – сказал он. – Неужели вы такой же сумасшедший, как я? Я не произносил и даже не слышал этого имени в течение длинных двенадцати лет.
– Что вы хотите этим сказать, Ричард? – спросила его Бланш, опасаясь невольно за его здравый смысл.
– Я хочу сказать, что я был болен в детстве жестокой горячкой, которая расстроила отчасти мой рассудок… И что исходной точкой моего помешательства была глупая мысль, что я – сэр Руперт Лисль!





